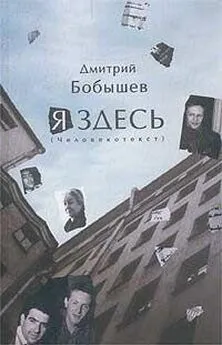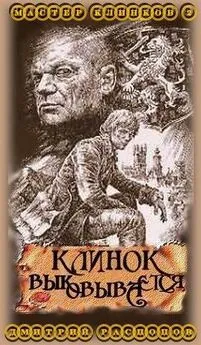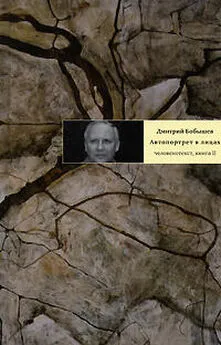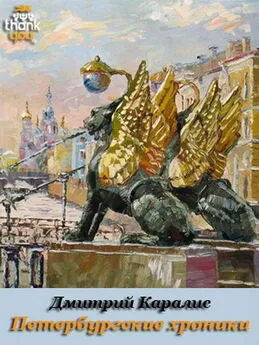Дмитрий Бобышев - Я здесь
- Название:Я здесь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вагриус
- Год:2003
- ISBN:5-9560-0026-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Бобышев - Я здесь краткое содержание
Я здесь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Вот вам болгарское стихотворение. А здесь — подстрочник. Возьмите и переведите за пять минут.
— Это мы запросто, — заявил Рейн, накатал первые две строчки и передал мне, как в игре “стихотворная чепуха”. Я стал дописывать, задумался, — он, торопясь, продолжил. Рифмы хватались самые банальные, эпитеты — тоже, и вот, до срока, дело закончено!
Долго Глазков, стремясь к чему-нибудь придраться, изучал нашу халтуру. Наконец радостно отверг:
— Не годится. В оригинале хорей, а у вас — ямб!
В результате наши собственные стихи до его слуха допущены не были, а он позволил нам полистать свое “Полное собрание сочинений”, вышедшее, конечно, в Самиздате. Пока мы шуршали машинописными томами, он молча переделывал ямб на хорей, используя нашу заготовку. В его стихах много, слишком много было пустого, но попадались сущие шедевры:
…А Инна мне не отдается,
и в этом Инна не права.
Чему ее учили в школе?..
Или — целая поэма про поэта Амфибрахия Ямбовича Хореева, одержимого идеей спаривать предметы. Закурив, поэт бросил однажды спичку и вдруг увидел ее вопиющее одиночество. Он положил рядом с ней другую, ей в пару, и с тех пор стал удваивать все предметы. Скоро круглые столы у него образовывали цифру 8, а для книжного шкафа пришлось умыкать невесту на стороне, а именно — из Дома литераторов. Дело кончилось печально и назидательно:
Дознанье вел полковник Слуцкий…
Писательский капустник привел меня в восторг: нет, какой он все-таки “матерый человечище”, этот Глазков, прямо мастодонт! Не зря же им и залюбовался всерьез Андрей Тарковский, заснял его, может быть, в лучшем эпизоде своего “Андрея Рублева” — в роли крылатого мужика. И получился средневековый Летатлин!
А в Питере легендарно рассказывалось о Роальде Мандельштаме, которого мы чуть-чуть, на несколько лет, не застали: кололся, болел, читал стихи по компаниям, умер… Лучшее, что от него осталось, — это фамилия, а стихи его были жидковаты и романтичны, никакого сравнения с Осипом Эмильевичем они не выдерживали. Впоследствии Наль Подольский сочинит из него еще одну петербуржскую сказку, сладкую сосульку о замерзших кораблях, тоже до времени самиздатскую.
Другое дело — Алик Кривин, нет, нет, Алек Ривин, да, именно так называл его Лев Савельевич, Левушка Друскин, знакомец Ривина по довоенным годам. Да Друскин и сам представлял собой некую культурную легенду — явление на грани официоза и Самиздата. Добродушно-веселый калека с атрофированными детскими ножками в кожаных чулочках, он валялся в подушках безвылазно, но вдобавок к этому круглосуточному занятию еще и писал стихи, в которых умудрялся фрондировать. Вовсю иронизировал над своей инвалидностью. Но и хорошо ее использовал, где надо; поди теперь разберись: из жалости издавались его книги или за талант? Или по давнему благословению Самуила Маршака? За талант ведь, как за полу, могли и придержать. Во всяком случае, ни одна рецензия на него не обходилась без устойчивого словосочетания: “Прикованный болезнью к своей постели поэт…” Пришлось и мне начать этими же словами свой сценарий телепередачи о Друскине, когда пришло тому время. Кроме того, он был женат, и весьма счастливо. Его улыбчивая Лиля тоже была разбита полиомиелитом, но в меньшей степени, чем Лева, она хоть могла передвигаться. Самым замечательным, на мой вкус, в них было то, что, навещая этих калек, здоровый человек не испытывал чувства вины перед ними.
От Левушки я услышал много экзотического про Ривина: тот ведь и побирался, и воровал, и отлавливал бродячих кошек на продажу… Но, главное, я услышал стихи, запомненные, прочитанные им наизусть и запоминаемые мной дальше! Причем даже такие большие, как, например, “Рыбки вечные”, — очаровательная, свободно переливающаяся поэма, в которой даже диминитивы сидели на своих местах ладно и утвердительно, где даже буква “щ” плескалась и пела, как “глокая куздра” у самовитого академика Щербы:
Лещик, лещик, мокрый лещик,
толстовыпуклый щиток,
ай, какой хороший резчик
нарезал тебе бочок…
В блокаду Ривина накрыла бомба, но какие-то стихи остались. Стихи остались.
Это и послужило поводом для нашего общего спора с Самойловым. Москва легко, гораздо легче, чем консервативный Питер, переступала пропасть между Самиздатом и печатью, и как раз недавно “ходом коня” выскочил московский либеральный сборник… в Калуге, потому только, что часть столичных литераторов проживала на даче в Тарусе, поселке, административно входящем в Калужскую область. И все! В “Тарусских страницах” оказались напечатаны материалы и авторы, заждавшиеся своего часа в московских редакциях, и среди них — Давид Самойлов, но не как переводчик, а как оригинальный поэт. И не меньший, чем, например, Слуцкий, представленный там же заносчивым стихотворением о некоем поэте:
Широко известный в узких кругах…
Про кого это: “… Идет он, маленький, словно великое / герцогство Люксембург”, — не про Самойлова ли? Значит, “узкие круги” — это про нас. Вот мы вчетвером и сидим у Дэзика, если по алфавиту, то: Бобышев, Бродский, Найман, Рейн; если по старшинству, то: Рейн, Бобышев, Найман, Бродский, а если по литературному значению в будущих веках, то пусть эти будущие века нас и рассадят. Мы выпили по рюмке золотистого, оживлены, читаем стихи. Бродский — “Сонеты”, написанные… верлибром. Самойлов смеется:
— Иосиф, прочитайте нам еще сонет строчек на сорок!
Это он — в точку! Защищать тут Иосифа трудно. И мы усмехаемся тоже. Жозеф бледнеет.
— Вот вы в “Тарусских страницах” напечатали “Памяти А. Р.” Это ведь, очевидно, про Алека Ривина: “Стихи, наверное, сгорели, / не много было в них тепла…”?
— Да, а как вы узнали? Что-то сохранилось?
Тут уже встреваю я:
— Сохранилось, и немало… Даже целая поэма под названием “Рыбки вечные”. Вот из нее наудачу:
Плавниками колыхая,
разевая влажный рот…
А жизнь проходит, штанами махая,
и в лицо мое плюет.
Теперь бледнеет Дэзик, в глазах у него замешательство, чуть ли не испуг:
— Я и не знал! Да я завтра же обязательно выброшу это стихотворение из готовящейся книги.
— Если поэт был, — веско говорит Иосиф, — то он и остался. Кто был, тот и есть.
Через несколько месяцев я увидел новую книгу Самойлова. Стихотворение “Памяти А. Р.” в ней как было, так и осталось. Да. Как оно было, так и осталось.
Жозеф, Деметр и многие другие
Как-то, проходя мимо дворца Энгельгардта (Малого зала имени Глинки), я увидел афишу клавесинного вечера Андрея Волконского “Музыка эпохи барокко”. Как можно было такое пропустить? Я купил два билета и, выйдя на Невский, столкнулся с Евсеем Вигдорчиком, одним из тех незабываемых голубых инженеров, а верней, кандидатов технических наук, которые так безотказно и своевременно отрецензировали мой дипломный проект. Слово за слово, перешли с музыки на досуг, и он пригласил меня с лыжами на зимнюю базу где-то в районе Куоккалы и Келломяки.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: