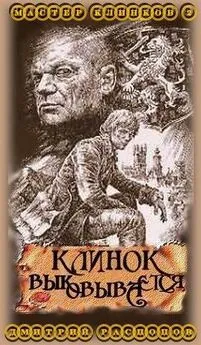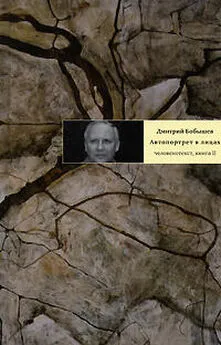Дмитрий Бобышев - Я здесь
- Название:Я здесь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вагриус
- Год:2003
- ISBN:5-9560-0026-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Бобышев - Я здесь краткое содержание
Я здесь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тема — если не сказать “братства”, то хотя бы литературного единения — возникала в нашей среде не раз, и порукой этому — местоимение “мы”, так легко формировавшееся на губах всякий раз, когда разговор шел о поэзии. Но ведь “братство”, как весьма обоснованно заметил великий утопист Николай Федоров, к которому я был тогда на подходе, возможно лишь во (или — при) едином Отце. В его гомоцентричности это так. Нас же как-то заново объединяла тогда Ахматова. И я стал Иосифа выводить на этот разговор. Присутствовали Эра и Марина, а главные говоруны и остроумцы вершили свои дела в Москве, и я, что называется, взял площадку:
— Ты, наверное, уже замечал, Ося, что нас четверых (надо ли перечислять?) все чаще упоминают вместе с Ахматовой, причем как единую литературную группу. Мне, честно говоря, такое определение очень и очень нравится, и я готов признать себя полностью в рамках, очерченных этим кругом, — назовем его “школой Ахматовой”. Признаешь ли ты себя внутри таких очертаний? И, если мы ее ученики, то чему нас учит и чему обязывает Ахматова? Ведь писать стихи мы и так умеем, не так ли?
Видя его внезапное сопротивление моим вопросам и даже желание утвердить себя вне всяких рамок, я стал загонять его внутрь заданного вопроса:
— Думаю, что она учит достоинству. Прежде всего человеческому… И — цеховому достоинству поэта.
— Достоинству? — вдруг возмутился Иосиф. — Она учит величию!
Вспоминая об этом разговоре потом, я осознал, что он ведь никогда не видел Пастернака и, может быть, зримо не представлял другой, более простой формы “величия”, следуя определенному образцу в его профильно-ахматовском виде…
И — еще одно характерное разногласие. В очередной раз нашумел на весь свет наш “поэт № 1”: то ли сначала либерально надерзил, а потом партийно покаялся, то ли наоборот, это неважно, важно, что вновь заставил всех говорить о себе. Я сказал Иосифу:
— Чем такую славу, я бы предпочел репутацию в узком кругу знатоков.
Чуть подумав, он однозначно ответил:
— А я все-таки предпочту славу.
Однажды, придя ко мне на Таврическую, Иосиф принес еще одну длинную поэму. Он расположился читать, но прежде я спросил:
— Как называется?
— Никак. Без названия.
— По первой строчке, что ли?
Странно. Может быть, он видит в этом какое-то новаторство? И вот, как в “Холмах”, описываемое начинает происходить неизвестно где, неизвестно когда. Скорее всего это — европейское средневековье. Картины разрушения, грязь, какой-то гонец, кого-то он ищет и не находит… Темное освещение, чувство тревоги, следы застывшего насилия, уставшего от самого себя. Что-то напоминающее по тональности польское кино, — например, фильм Анджея Вайды “Пейзаж после битвы”; наверное, он и был начальным импульсом для поэмы.
— Ну что ж, впечатление внушительное: размах… И все-таки, или даже тем более, назвать как-то нужно.
— Почему?
— Да потому, что неназванная вещь не существует. В лучшем случае место ей в “Отрывках и вариантах”. А так — будет произведение.
Он продолжал сопротивляться, а я — “спасать” его же поэму:
— В Европе было много войн, ну, например: Тридцатилетняя, Столетняя… Какая больше подойдет тебе для названья?
– “Столетняя война”.
— Вот и отлично!
Убедил… Носил и я свою очередную продукцию к нему, читал. Вдруг он показал мне в ответ не стихи, как почти всегда, а небольшой прямоугольник загрунтованного картона с двойным портретом, который он написал маслом. Там был изображен коричневый сумрак комнаты, белый абажур широким цилиндром, часть столового овала и две фигуры по сторонам: в зеленоватом — мужская с почти не прописанным лицом, в ней можно было предположить Иосифа, а в синем, безусловно, Марина — это ее вытянутая фигура, длинные прямые волосы, вполне прорисованное узнаваемое лицо и чуть вытянутые, как для поцелуя, губы. И я вдруг увидел ее красоту. Мне захотелось поцеловать эти губы.
Какие-то тяги в механизме равновесных отношений сместились. Все вроде бы оставалось по-прежнему. Но Иосиф становился упрямо-раздраженным. Внезапно позвонила Марина откуда-то поблизости из уличного телефона, попросилась зайти. Пространство моей клетушки к тому времени еще уменьшилось, по крайней мере эмоционально. Я привез из Москвы живописный этюд Целкова — голову одного из его “Едоков арбуза”. Когда я садился за стол, его бело-розовая маска пронзительно высматривала из-за моего плеча, что я там пишу, и мне становилось не по себе. Но вся композиция в целом меня восхитила в мастерской у Олега, и я захотел, чтобы этот этюд напоминал мне, среди кого я живу. Пусть он будет той гирей, которую надо качать по утрам, чтобы весь день оставаться собою. Олег своих работ не дарил, оценивал их по квадратным сантиметрам поверхности, но мне за стихи и знакомство продал его хотя бы за минимум и в рассрочку.
Когда явилась Марина, пришлось этот этюд поворачивать к стенке: она не могла, конечно, выносить его свирепости, особенно в крохотном пространстве. Впрочем, он и в перевернутом виде впечатлял: хотя бы добротностью подрамника, распорок и клиньев, — во всем сказывался мастер. Я посадил ее за стол, сам сел на раскладушку, а других мест у меня не было. Дверь в кухню оставил открытой, закурил. Нет, она попросила закрыть дверь. Тогда я открыл форточку. Нет, лучше окно. От сырого осеннего ветра стало знобить. Я предложил прогуляться к Смольному собору и показать ей Кикины палаты и Бобкин сад, о которых она и не слышала. Нет, “Кикины” слышала, а “Бобкин” восприняла как каламбур по отношению к моей фамилии.
Собор стоял в лесах, но никакие работы там не велись. Мы залезли на самый верх и пробрались внутрь нефа через раскрытое окно. Лепнинные херувимы вблизи казались экстатическими чудовищами, вкушающими сластей небесных, и — не более благообразными, чем целковские едоки. Мы прошли по внутреннему карнизу в глубь храма. Карниз был достаточно широк, чтобы пройти туда по одному, но сухие напластования голубиного помета делали прогулку небезопасной. Снизу вздымались остатки алтарной рамы, а далеко внизу перед аналоем стояли заколоченные ящики. Мы, вероятно, смотрели на это, “как души смотрят с высоты / на ими брошенное тело”. Помещение использовалось в качестве склада для Эрмитажа.
Разговоры с ней мне были интересны, даже захватывающи, хотя мы касались абстрактных или, можно даже сказать, метафизических тем. Например, о пространстве и его свойствах. О зеркалах в жизни и в живописи. В поэзии. О глубине отражений. Об одной реальности, смотрящей в другую. И то же — о мнимостях. Я воспринимал это как ее собственные наблюдения и мысли. Отчасти так и было. Но постепенно я узнал, что она училась (всему) у Владимира Стерлигова, наглухо замолчанного художника и теоретика живописи, ученика Малевича. Это были во многом его подходы, но примеры были свои, а пейзажи — те, что мы видели сообща. В каждом она прежде всего находила определяющий структурный знак и затем его развивала. Только то были не конусы и кубы Сезанна, а, скажем, чаша, купол, крест, не знаю еще что, — какая-то эмблемная форма. Я понимал это по-своему, переводя на свою музыку, и мне казалось, что я научаюсь читать пейзаж (интерьер, портрет или что угодно) по буквам и слогам, словно текст, и, как я и сам подозревал, он содержал смысл и даже складывался в послание.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: