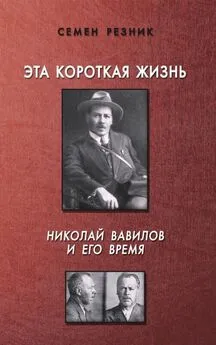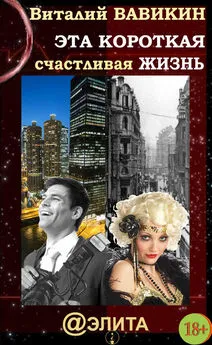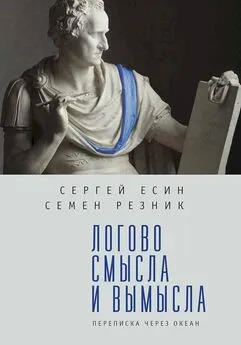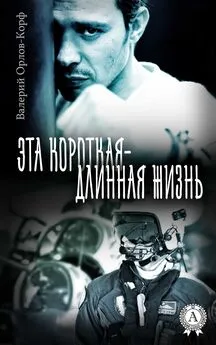Семен Резник - Эта короткая жизнь. Николай Вавилов и его время
- Название:Эта короткая жизнь. Николай Вавилов и его время
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ирина Богат Array
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8159-1458-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Семен Резник - Эта короткая жизнь. Николай Вавилов и его время краткое содержание
Эта короткая жизнь. Николай Вавилов и его время - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Последняя проверка. По просьбе Вавилова цитолог Селекционной станции Александра Гавриловна Николаева производит подсчет числа хромосом в клетках персидской пшеницы. Ну, конечно! У персиянки 28 хромосом, тогда как у мягких пшениц 42. Значит, персидская пшеница – не vulgare!
К какому же виду ее отнести? Может быть, к твердым: у них как раз 28 хромосом! Но по ряду признаков персиянка резко отличается от твердых пшениц.
«Ее надо выделить в отдельный биологический вид – Triticum persicum!» – решает Вавилов.
Решает, конечно, не сразу. Только в 1918 году сделает этот шаг, и тогда он многим покажется слишком дерзким. Ботанический вид объединяет большое разнообразие форм, а персидская пшеница была представлена одной-единственной. Выделяя ее в отдельный вид, Вавилов как бы заявлял, что должны существовать еще не найденные формы персиянки. А ведь речь шла о пшенице: ботаники пристально изучали ее уже двести лет! Казалась бы, об открытии нового вида не могло быть и речи. Правда, Вавилов уже сознавал, насколько иллюзорна уверенность в том, что род Triticum ботанически хорошо изучен. В том, что это не так, он мог убедиться во время первой своей экспедиции – в 1916 году.
А в 1922 году профессор Тифлисского университета П.М.Жуковский нашел в горах Кавказа посевы персидской пшеницы. Еще лично незнакомый с Вавиловым, Жуковский состоял с ним в деловой переписке и заочно причислял себя и своих учеников к вавиловской школе. Он послал образцы Николаю Ивановичу.
«Относительно Triticum persicum Ваше определение верно, – отвечал обрадованный Вавилов. – Ваше открытие для меня особенно интересно, т. к. я вот уже 11-й год имею дело с персидской пшеницей. Скрещивали мы ее со всеми видами, многими разновидностями. Чем больше ею занимаюсь, тем больше любопытного. В шутку я говорил <���…>, что у меня давно подготовлен целый роман с персидской пшеницей. Ее исследовали мы и цитологически, и анатомически, и гибридологически, и в техническом отношении. Мука из нее получается своеобразная, сладковатая, малого подъема, но очень вкусная».
Ну а родиной персидской пшеницы оказалась вовсе не Персия, где, доверяя названию, Вавилов тщетно искал ее в 1916 году, а Дагестан. В горах Грузии и Дагестана Жуковский нашел большое разнообразие форм этого вида. Гипотеза Вавилова нашла блестящее подтверждение. 9 февраля 1923 года Николай Иванович писал в Нью-Йорк Д.Н.Бородину: «Из событий, новых за последние месяцы, самое интересное – это выделение нового вида пшеницы Тритикум персикум, которая была выделена [мною] уже на основании работ по иммунитету. В 1922 г. были найдены в Грузии в большом числе разновидности. Об этом виде я составлю заметку для “Science”, которую пошлю Вам. Видов пшеницы 8, и работают с ней систематики 200 лет, и прибавление нового вида является фактом довольно существенным для пшеницы» [69].
Николай Иванович скромничал: выделение нового вида пшеницы было фактом первостепенной важности не только для пшеницы, но вообще для науки.
Кстати, дальнейшие исследования показали: иммунитет к мучнистой росе присущ далеко не всем разновидностям и сортам персиянки. Если единственный образец из коллекции Селекционной станции Петровки оказался стойким к грибку, благодаря чему Вавилов и сосредоточил на ней свое внимание, то это случайность – исследовательское счастье молодого ученого. То счастьем, о котором говорил Пастер: оно посещает лишь подготовленные умы.
До конца жизни Николай Вавилов будет следить за всем новым в области иммунитета растений. Продолжит – пусть урывками – экспериментальные исследования; даже в своей квартире на подоконнике будет наблюдать болезни овсов. В 1935 году выйдет новый вариант его монографии. В 1940-м он выступит с большим докладом, в котором сформулирует основные законы естественного иммунитета растений.
Но даже в годы самых интенсивных исследований иммунитета эта проблема не поглощала его целиком.
Совместно с О.В.Якушкиной он опубликовал исследование о физиологических свойствах некоторых форм овса.
Его занимал межвидовой гибрид мягкой пшеницы с однозернянкой.
Он опубликовал очерк учения о прививках растений.
Готовился к магистерскому экзамену, «к которому предстоит по программе-минимум прочитать 6 ½ тысяч страниц на немец [ком] и французе [ком] языках» [70]. (То ли в шутку, то ли всерьез он называл предстоящий экзамен «истязанием».)
Казалось бы, дел выше головы, все срочные, неотложные, – не продохнуть. Но из писем его узнаем о том, какое сильное впечатление произвела на него большая статья Петра Струве «Суд истории» в двух номерах журнала «Русская мысль»: «Струве разбирает причины войны и приходит к выводу после подробного разбора исторических условий, что возникновение данной войны должно быть вменено [в вину] определенным лицам, оно явилось выражением личных свойств и формулировкой личного решения» [71].
Тяжкое обвинение! Автору и редакции журнала, видимо, не занимать было смелости. Из статьи вытекало, что страшной войны, с ее огромными жертвами, можно было избежать; страну втянули в войну из-за личных амбиций, то есть по капризу лиц, наделенных властью. Ну а кто стоял у кормила власти в царской России, можно было не объяснять.
Вавилов настоятельно рекомендовал Н.П.Макарову прочитать статью, был готов послать в Воронеж оба номера журнала.
Интерес к автору столь убедительной и смелой работы привел Вавилов на лекцию Струве «Факт и идея Великой России». И испытал полное разочарование. Струве произвел на него отталкивающее впечатление.
«Лекция была, по-моему, возмутительная и бессмысленная <���…>. Без всяких доказательств дали России эпитет и Великодержавной, и Святой, и Мировой, и еще с десяток. Причем излагалось всё это особым способом, вроде чревовещания. Ужасная это штука – союз экономической науки с богоискательством. На днях будет вещать другой экономист-богоискатель Булгаков, тоже, вероятно, в том же духе. И так темно нашему брату в “экономике”, а тут еще сами экономисты мутят. Безобразная эта штука национальная mania grandiosa [мания величия], в особенности скверно то, что несомненно культурные и талантливые [люди] заболевают ею» [72].
Но от главного Вавилов отклоняется редко и ненадолго. Он ни на минуту не забывает, что жизнь коротка, в любой момент может оборваться, как только что оборвалась жизнь любимой сестры – такой молодой, полной сил, светлых надежд и планов! Подхлестывает и неопределенность его положения из-за этой проклятой войны: неизвестно, что будет с ним завтра или через неделю.
Поначалу казалось, что война продлится два-три месяца, от силы полгода. Но она затягивалась, становилась все более ожесточенной, втягивая в кровавое месиво все больше ресурсов, материальных и людских, подымая на поверхность муть самых отвратительных звериных инстинктов – ненависть, жестокость, национальную фанаберию, шовинизм.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: