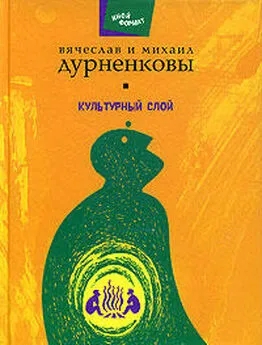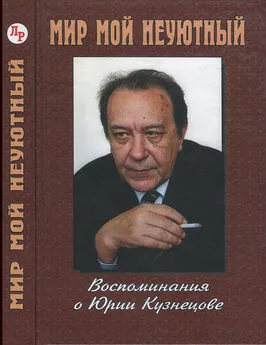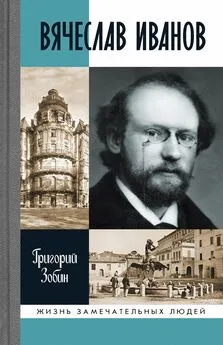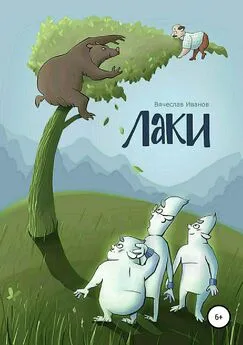Вячеслав Иванов - Голубой зверь (Воспоминания)
- Название:Голубой зверь (Воспоминания)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1994
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Иванов - Голубой зверь (Воспоминания) краткое содержание
Здесь я меньше всего буду писать о том, что хотел выразить в стихах. Я обойду молчанием кризисы молодости, да и последующих лет, все то, что философы называют «я-переживанием» (в бахтинском значении слова). Это было у многих, и не хочется повторяться. Я буду писать о вынесенном наружу, об относящемся к тем, кто на меня повлиял, о случившемся в мире, меня принявшем и вырастившем, том мире, который все еще меня терпит.
Голубой зверь (Воспоминания) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мне случилось еще несколько раз читать стихи Пастернаку или в его присутствии. Он как-то сказал, чтобы я показал ему написанные тексты. Я сделал это весной 1958 года. Он читал мою папку довольно долго, что-то при встрече с о мной к случаю из нее процитировал. Наконец среди дня он пришел к нам на дачу, принеся то письмо ко мне, о котором шла речь (он любил изъясняться письмами). Посидел недолго, попрощался, а потом минут через десять опять пришел запыхавшись. Он забыл сказать, что он показал папку с моими стихами Ивинской и той они понравились даже больше, чем первые опыты Андрея Вознесенского (тот тогда бывал у Пастернака и читал ему и его гостям стихи, один раз вместе со мной). Борис Леонидович боялся, что я обижусь на его критику, и хотел позолотить пилюлю. Он был бледен от волнения. Меня он любил, но не мог кривить душой, если ему по сути что-то не нравилось. Я оценил его серьезность в отношении моих писаний, зная, как легко он отделывается общими словами и комплиментами, если стихи его не затрагивают.
Несколько раз Пастернак мне давал читать стихи других поэтов, ему данные или присланные на суд. Ему нравился цикл Стефановича, посвященный Блоку, он находил в нем созвучие Анненскому, тому, что Пастернаку было близко в поэзии начала века. От него я получил несколько тетрадей Шаламова (еще только освободившегося) с просьбой отметить, что в них заслуживает внимания.
Вообще нежелание читать других поэтов, обижавшее Ахматову, у Пастернака скорее декларировалось, чем было реальным. Я передал ему первую книгу Слуцкого, с которым тогда дружил. Через некоторое время оказалось, что он ее читал. Он сказал мне, что к Слуцкому нужно отнестись с вниманием. Но когда они встретились у меня на дне рождения, разговора не вышло. Пастернак хотел выпить за здоровье Слуцкого. «Благодарю вас, я уже здоров», — ответил тот со своей солдатской грубостью. Разговор двух поэтов при встрече кажется сочиненным Хармсом. Еще неудачнее был разговор с Самойловым (на Новый год, 1960-й, уже перед смертью Пастернака, у нас на даче). Поздно ночью, когда уже встали из-за стола, мы сидели втроем — Борис Леонидович, Дэзик Самойлов (тогда мой близкий друг) и я. Пастернаку явно хотелось поговорить с Самойловым. Тот сильно выпили, не соображая, что делает, стал читать Пастернаку старые свои стихи, где он от имени молодых упрекает Пастернака в том, что он не выбрал, на чьей он стороне, красных или белых. Для меня и стихи (которые Самойлов до того мне читал, они совсем неудачные), и поведение Дэзика в ту ночь так до конца не ясны: Дэзик был умным и иногда просто валял дурака в делах, пограничных с политикой (иногда он позволял себе смелые поступки, как в начале следствия над Синявским и Даниэлем, когда он помог найти для них адвокатов, но эта линия не была последовательной). Отношение поэтов к Пастернаку их для меня определяло: со Слуцким дружба прекратилась после его выступления на писательском собрании против Пастернака (в тот же вечер и на следующее утро мы с ним долго говорили, он был в страхе, теперь я думаю, что уже начиналась его болезнь), но и Самойлов, сбежавший от этого собрания на машине на юг, не прибавил себе веса в моих глазах. Я ценил неуклюжесть слога Слуцкого и гражданственность его стихов. Разговоры наши больше касались политики. Из моих стихотворений он выделял как раз то большое, которое не одобрял Пастернак. Слуцкий, впрочем, предостерегал меня от опасностей писания подобных стихотворений. Но когда уже после нашего раззна- комления мне предложили написать предисловие к цветаевскому тому в серии «Мастеров перевода», Слуцкий, редактировавший этот выпуск серии, просил меня по телефону избегать в нем политической темы (он не был одинок: один из математиков, друживших прежде со мной и слывший чуть не диссидентом, отказался помочь мне найти новую работу, сказав, что я в глазах всех слишком связан с политикой, политикобоязнь становилась видом эпидемического заболевания). В конце концов именно политические разногласия, никогда нами с ним прямо не обсуждавшиеся, затруднили мне в последующие годы дружбу с Самойловым: я любил его пушкинизи- рованный легкомысленный образ поэта, которого все не зовуг и не зовут к священной жертве, но он иногда злоупотреблял этими возможностями быть всех ничтожней. Но его «Пестель, поэт и Анна», прочитанные мне сразупосле их написания — мы случайно встретились днем в Доме литераторов, — меня заворожили, как и несколько других его стихотворений того времени. А он к моим стихам относился критически, считая, что я ошибочно не хочу входить в литературу: но я и в самом деле тогда не видел нужды в этом. По его словам, я готов был принять ответственность за мир, за Россию, но не за словесность. А я думал, что одно исключает другое, что роль признаваемого поэта несовместима с тем, о чем я хотел for да писать (это была книга верлибров с гражданским направлением). Слуцкий читал мне много из того, что только теперь, спустя столько лет после его смерти, напечатано. До разрыва со Слуцким — втроем, а после вдвоем с Дэзиком мы встречались часто. Человечески мы были настолько близки, что он посчитал необходимым со мной советоваться по поводу решения оставить прежнюю свою семью. Почему-то везло на роль советчика по таким делам: Роман Якобсон завел со мной однажды беседу на эту тему. И Пастернак, когда я навещал его как-то в больнице, стал мне объяснять, что менять ему семью не стоит. Он ошибся уже раз, это сделав. По его словам, смотри он на вещи так, как теперь, он и с первой женой не стал бы расставаться.
Среди стихов, которые мне вскоре после того, как я научился читать, отец показал с восторгом в напечатанном виде, были вещи Заболоцкого, вошедшие потом в его «Вторую книгу». Их публикация была событием для моих родителей, и они спешили со мной поделиться, хотя мой возраст вроде совсем не подходил для этого чтения (об этом никто из нас не думал). Долго — все время, пока Заболоцкий был в лагере, да и позже — страницы с этими стихотворениями, вырванные из ленинградского журнала, хранились среди поэтических сборников в отцовском кабинете* Я любил наивный классицизм «Второй книги», знал стихи из нее наизусть, как и запомнившееся по первой журнальной публикации вступление к поэме Руставели в переводе Заболоцкого. В середине сороковых годов, как только его выпустили из лагеря и он приехал в Москву, я пошел на его вечер в Клубе писателей. Народу было очень мало, читал он не те стихи и не те переводы, что я любил. Позже для меня открылись достоинства его «Столбцов», особенно удивляло разительное сходство с первыми сборниками Т. С. Элиота с тою же смесью гротеска и лирики; после доклада, где я упомянул об этом, М. И. Стеблин-Каменский сказал мне, что и ему это приходило в голову. Как-то я прожил вместе с Заболоцким в Дубултах долгий срок в Доме творчества, мы иногда сталкивались в парке, где он один часами сидел на скамейке (обдумывал стихи?), я видел его пьющим пиво на станции, но мне не хотелось его тревожить. Чувство, выраженное в стихах Самойлова о разговоре с Заболоцким в Тарусе («Напрасно его беспокою»), мне мешало: видно, от Заболоцкого исходило нежелание случайного общения. Со старыми ленинградскими знакомыми, как с Германом, он оставался дружен и писал для них там же и тогда же шуточные стихи. Я познакомился с Заболоцким у Каверина, но разговор был коротким и незначащим: я запомнил только его фразу о погребе на недавно отстроенной каверинской даче — «туда бы забраться и писать стихи», мысль о необходимости отъединиться от мира, видимо, его одолевала. Внешность и манера говорить ничем не изобличали поэта, при знакомстве много лет спустя похожей особенностью поразил Чеслав Милош.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: