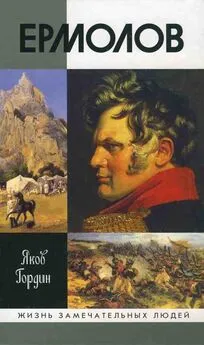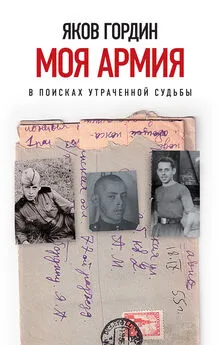Яков Гордин - Моя армия. В поисках утраченной судьбы
- Название:Моя армия. В поисках утраченной судьбы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1180-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Яков Гордин - Моя армия. В поисках утраченной судьбы краткое содержание
Моя армия. В поисках утраченной судьбы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Приехали мы на этот разъезд пять дней тому назад, несколько дней жили где придется и наконец водворились в землянке на аэродроме. Землянка неплохая, до нас здесь жили офицеры-геодезисты. Правда, тесновато. Землянка примерно 5 на 5, а живет в ней 47 человек. Зато на холод жаловаться не приходится. Это куда лучше, чем в палатке, особенно теперь. Вчера у нас было -35, а сегодня и того покрепче. Вот вам и „степи монгольские"».
Следующий пассаж требует комментария. Даже двойного. С 1945 по 1949 год мы всей семьей проводили лето в Михайловском, в Пушкинском заповеднике, где отец работал замдиректора по научной части. Попал он туда характерным советским образом. Сразу после окончания войны его, участника обороны Ленинграда, вызвали в МГБ и приказали в 24 часа выехать из города. Другие крупные города для него тоже, разумеется, были закрыты. Он смолоду, с середины тридцатых годов, занимался пушкиноведением. Работая заведующим редакцией Ленинградского Учпедгиза (будущее «Просвещение»), время от времени возил в Михайловское экскурсионные группы. А в 1939 году у него вышла книга «Пушкин в Михайловском». Первая книга на эту тему в пушкинистике. По ней обучались молодые экскурсоводы. Пушкинский заповедник был подведомствен Институту русской литературы, то есть Пушкинскому Дому. И отец в растерянности пошел именно туда, посоветоваться с Борисом Викторовичем Томашевским, который его ценил. Борис Викторович сказал, что у него есть разумное предложение: в Пушкинском заповеднике вакантно место заместителя директора по научной части. Только что назначенный директор — Семен Степанович Гейченко — музейный работник, но никогда не имевший никакого отношения к Пушкину. И, естественно, научной стороной восстановления заповедника должен ведать специалист. А поскольку отцу не назначено определенного места жительства, лишь бы подальше от крупных городов, то Михайловское вполне подходит. Надо ли говорить, что отец согласился с радостью. Томашевский был одним из руководителей Пушкинского Дома, проблем с назначением не возникло... Кстати говоря, эта весьма щадящая ссылка спасла отца от куда более печальной участи. Во время «ленинградского дела» были арестованы и осуждены его сотрудники и друзья по Учпедгизу. И если бы он восстановился, как собирался, на своей прежней должности, то судьба его была бы ясна. А он был за 400 км от Ленинграда, и это его уберегло.
Причина высылки понятна — два его старших брата были арестованы в 1937 году. Один в это время строил Норильский комбинат, а другой, скорее всего, уже погиб.
В том же письме от 25 марта я писал своему младшему брату: «Знаешь, Михаил, здесь, говорят, летом есть всякие бабочки, если мне попадется на глаза что-нибудь ценное, я обязательно изловлю и пришлю тебе».
В период нашего блаженного михайловского житья мы прочитали совершенно гипнотическую по своему воздействию книгу Сергея Тимофеевича Аксакова «Собирание бабочек». И соответственно, под непреодолимым ее влиянием мы с братом упоенно занялись ловлей и коллекционированием. А в послевоенном Михайловском с его нетронутой природой и отсутствием массовых посетителей существовал многообразный животный мир — относилось это и к бабочкам, как дневным, так и ночным. Коллекции наши в пятьдесят пятом году были еще в приличном состоянии, и, естественно, хотелось пополнить их чем-то экзотическим.
Я вспомнил о Михайловском не только из-за этого пассажа. Судя по письмам, в первые психологически тяжелые недели службы Михайловское возникало в моем сознании как образ утраченного рая.
Одно из писем этих первых недель — к сожалению, не датированное, а конверт не сохранился, — почти целиком состоит из разного рода поэтических реминисценций. В родительской библиотеке присутствовало великое издание «Русская поэзия XX века» Ежова и Шамурина {6} 6 Русская поэзия XX века. Антология русской лирики первой четверти XX века / И.С. Ежов, Е.И. Шамурин; ввод. ст. В. Полянского. М., 1925.
. Стрелок-карабинер, кроме перечисленной уже литературы, был неплохо знаком с поэзией Серебряного века. И ему было приятно наносить на бумагу стихи, которые он помнил наизусть. В частности, я воспроизвел — и неслучайно — стихотворение Федора Сологуба «На Ойле далекой и прекрасной». В письме я процитировал его целиком, а здесь приведу последние строки, чтобы суть была понятна.
Тихий берег синего Лигоя
Весь в цветах нездешней красоты,
Тихий берег синего Лигоя —
Вечный мир блаженства и покоя,
Вечный мир свершившейся мечты.
И в дополнение строки Гейне:
Там <...> прыгают, слушая чутко,
Газели, умны и легки.
И глухо шумят в отдаленьи
Священные волны реки.
Цитировалось все это с вполне определенным смыслом. «Если свести два эти стиха воедино, то получится описание недурного местечка. Хорошо. Прямо как в Михайловском. Хорошие воспоминания связаны с этим названием. Не так ли?
О, долина Ронсеваля,
Чуть твое услышу имя,
В сердце дрогнет, расцветая,
Незабудка голубая».
Это тоже Гейне. Голова стрелка-карабинера была, однако, довольно плотно набита стихотворными текстами. Позже, в другом полку и в другой ситуации, я читал своим друзьям стихи, о существовании которых они не подозревали.
27.ХІІ.1954. «У нас два раза в неделю кино. Вчера, в воскресенье , — смотрел „Дети партизана". Картина на уровне, но что мне там понравилось, так это — лес. Много и хорошо показан не здешний, а наш западный настоящий лес. Как в Михайловском. Михайловское... Какие хорошие были времена! А еще лучше воспоминания. „Что пройдет, то будет мило“».
24.1.1955. «Знаете, последнее время мне снятся хорошие сны. Мне снилось, что я в Михайловском. Погулял по хорошему зеленому лесу. От портрета (В сороковые годы над аркой при входе в Михайловский лес со стороны Бугрова висел огромный портрет Пушкина.— Я. Г.) прошел к Маленцу, вдоль дороги там растут крепкие темноголовые маслята с пленкой на губке... Вы тоже были там и вместе ходили по лесу. Хороший сон, правда? После таких снов неприятно просыпаться при подъеме».
Михайловское я вспоминал не только в тяжелые совгаванские времена, но и позже — во времена куда более благоприятные — в Забайкалье.
20.IV.1955. «У меня все в норме. Здоров, сыт, одет. Скоро получим новое обмундирование. Давно ли в С. Гавани я получал первую пару! А уже скоро семь месяцев. Пятая часть службы позади. 14-го был юбилей — полгода. Прошло самое трудное время — первая зима. Быстро, правда? Что за погода в Питере? У нас тепло, жаворонки болтаются над степью, поют. Помните, мы шли как-то из Тригорского, а на столбике, недалеко от ямы, где лежала когда-то пушка, сидел жаворонок и роскошно пел. Мы остановились и слушали. С нами был дядя Саша. (Старший брат отца, которого ко времени моей службы уже не было в живых.— Я. Г.). Многое прошло с тех пор, и то время помнится очень хорошим, Пожалуй, оно и в самом деле было неплохим. Было?»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: