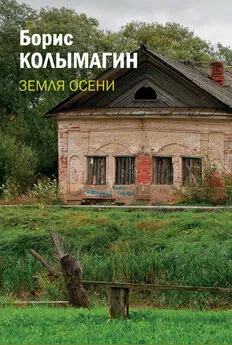Борис Колымагин - Святой хирург. Жизнь и судьба архиепископа Луки
- Название:Святой хирург. Жизнь и судьба архиепископа Луки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2018
- Город:М.
- ISBN:978-5-17-108202-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Колымагин - Святой хирург. Жизнь и судьба архиепископа Луки краткое содержание
Святой хирург. Жизнь и судьба архиепископа Луки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В 1914 году в Таврической епархии насчитывалось 395 приходских церквей, 65 молитвенных домов и часовен и 43 монастырские церкви (4). В самом Крыму было 157 православных храмов (5).
К 1937 году оставалась только одна-единственная действующая церковь в Симферополе (6).
Сразу после прихода немцев началось духовное возрождение: открывались храмы, мечети, костелы, молитвенные здания.
После освобождения в Крыму действовали 82 православные церкви. К 1944 году их число сократилось до 70, а за три года, с 1944-го по 1947-й, было ликвидировано еще 12 (7).
Значительная часть церквей находилась в городах. В столице Крыма действовало 5 из 9 сохранившихся храмов, в Севастополе – 2, в Керчи – 3, в Ялте – 2. В этих и некоторых других городах полуострова богослужения проводились ежедневно. В других местах они совершались два-три раза в неделю, но не реже (8).
Судьба обитателей полуострова была тяжелой. Жители нищенствовали. Крупу хозяйки покупали пятидесятиграммовыми стопочками и несли в мешочках как огромную ценность (9).
До немецкой оккупации в Крыму насчитывалось 1 126 000 населения, в том числе 218 000 татар (10). После вступления советских войск на полуостров начались «зачистки» Крыма от «антисоветских элементов». Основные «зачистки» проходили в 1944 и 1949 годах. Депортации подверглись около 200 000 татар, 10 000 армян, 15 000 греков, 12 000 болгар, а также малочисленные национальные группы, благонадежность которых была поставлена под сомнение. Фактически каждый четвертый житель полуострова оказался в числе спецпереселенцев (11).
После депортации «провинившихся» народов в поисках сытной жизни на полуостров приехало немало переселенцев. Но их ждало разочарование, и, если бы не жесткое администрирование, многие из них с удовольствием уехали бы обратно. «Обеспечение колхозов переселенческих районов рабочей силой составляет 42 %… Приняты меры к полному прекращению самовольных выездов переселенцев», – читаем мы в одном из документов той поры (12).
Колхозники, загнанные в советское рабство, почти ничего не получали. В городах трудно было с жильем, с работой. Верующим приходилось труднее, чем религиозно индифферентным гражданам. Часто в воскресные дни они не имели возможности посещать богослужения. «Некоторые недовольны властью, что им не дают выходных дней, что в связи с засухой скудная жизнь, что они не получают ничего за работу, что хлеба нет, а также нет и денег» (13).
Местные князьки постоянно стремились занять свободный день сельчан. Свои намерения они распространяли даже на духовенство. «Настоятель Петропавловской церкви, село Партизанское Бахчисарайского района, священник Тукин Сергей обратился с таким вопросом. Председатель Партизанского сельского Совета его и псаломщика намерен мобилизовать на воскресник 7 июня для посадки табака в колхозе, им по 60 лет, поэтому могут ли они отказаться от работы в колхозе в воскресенье. Разъяснил Тукину, что отказаться могут и сельсовет их мобилизовать прав не имеет», – сообщает наверх уполномоченный СДРПЦ (14).
В послевоенном Крыму существовало немало религиозных организаций – протестанты, караимы, иудеи, старообрядцы… Но самыми многочисленными являлись православные общины. Православие, несмотря на страшные годы репрессий, оставалось самой крупной и влиятельной конфессией в СССР. К 1946 году Русская православная церковь имела 10 544 действующих храма, насчитывала 9254 священников и дьяконов (15). Она находилась в зоне самого пристального внимания государства, и отношения с ней определяли в целом государственную политику в религиозной сфере.
На первые послевоенные годы пришелся пик в улучшении церковно-государственных отношений. Правительство, заинтересованное в международных акциях Московской патриархии, пошло на ряд уступок. После постановления СНК СССР от 22 июля 1945 года в Крыму вновь раздался колокольный звон. (С приходом Советской армии на полуостров его запретили) (16). Правда, колокола были не во всех храмах. К 1949 году в 4 храмах их не было вообще, а во многих церквях вместо колоколов применялись гильзы от снарядов и чугунные изделия. Самый большой колокол епархии весил 528 кг (17).
Церковным органам разрешается заниматься производством церковной утвари и ее реализацией. Они получают право создавать свои мастерские и производственные предприятия, иметь складские помещения для хранения сырья и готовой продукции. 1 октября 1945 года в Крыму организуется свечное производство (18). Однако из-за малой рентабельности архиепископ Лука предпочел его 1 июля 1947 года свернуть и закупать свечи в других епархиях.
Авторитет Церкви в глазах народа постоянно растет. Верующие активно включаются в социальную работу – устраивают благотворительные обеды, помогают сиротам и вдовам. При храмах возникают кассы взаимопомощи, например во Всесвятской (кладбищенской) церкви Симферополя. С апреля по декабрь 1944 года здесь было выдано пособий нуждающимся на общую сумму 40 500 рублей, а в январе 1945 года – 1700 рублей. Однако после вмешательства уполномоченного эти кассы были ликвидированы (19).
Первым послевоенным епископом полуострова стал ленинградский архимандрит Иоасаф (Журманов), которого 13 августа 1944 года хиротонисали во епископа Симферопольского и Крымского (20). Первым же уполномоченным СДРПЦ был Яков Иванович Жданов, выступивший в роли советского обер-прокурора регионального масштаба. Эта роль в зависимости от политической ситуации, указаний сверху и авторитета правящего архиерея постоянно менялась, как менялось и соотношение между чистым администрированием и наблюдением за жизнью религиозных общин.
Первый епископ послевоенного Крыма определенно был слаб. И власти без лишнего шума с его помощью закрывали одну церковь за другой. Такова была, как мы уже замечали, общая политика: на бывшей оккупированной территории число храмов неизменно уменьшалось, в то же время в не занятых немцами районах оно увеличивалось. Правда, не очень значительно.
В отчете за 2-й квартал 1945 года Жданов сообщает: «Было закрыто 3 церкви. Закрытие было произведено через Правящего Епископа путем объединения общин» (21).
Каждый свой шаг правящий архиерей согласовывает с чиновником СДРПЦ. В отличие от архиепископа Луки он исполняет все указания. И добивается продвижения по службе. Епископа Иосафа (Журманова) переводят на место Луки в Тамбов. Вскоре, в 1948 году, его избирают членом Священного синода Русской православной церкви.
В первые послевоенные годы религиозная жизнь в Крыму била ключом. В храмы ходило немало мужчин и молодежи. Ежегодно крестилось около 10 000 человек (22). Венчалось, правда, значительно меньше, порядка 300–400 человек (23). Отпевали же около 2000 человек (24). Верующие явочным порядком совершали панихиды в местах расстрела партизан и массовых захоронений.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


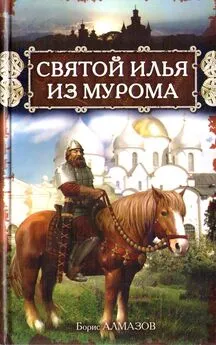

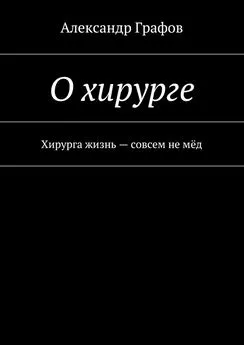


![Борис Орлов - Святой Грааль [СИ]](/books/1078917/boris-orlov-svyatoj-graal-si.webp)