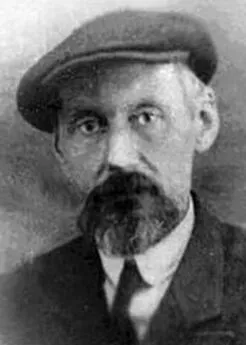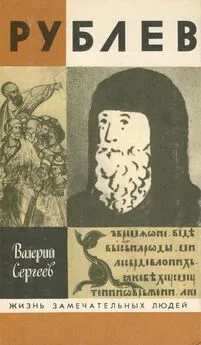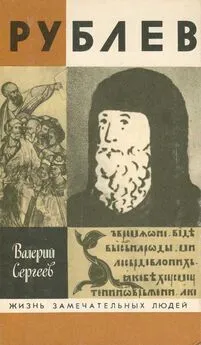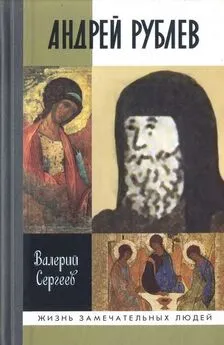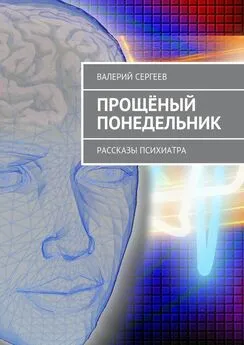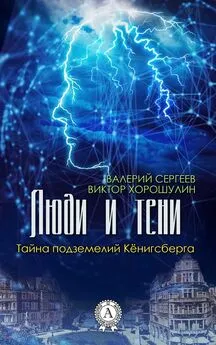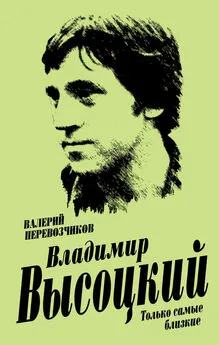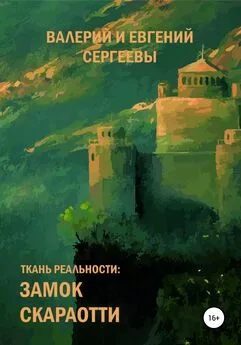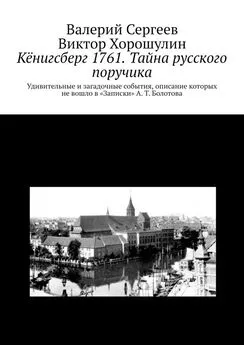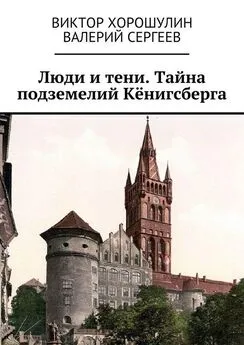Валерий Сергеев - Владимир–иконописец
- Название:Владимир–иконописец
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наш современник». 2015. № 11. С. 279–286
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Сергеев - Владимир–иконописец краткое содержание
Владимир–иконописец - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В том же 1912 году художник совершил творческую поездку в Ростов Великий и Ярославль для знакомства с тамошними памятниками древней архитектуры и произведениями искусства, хранившимися в храмах и ростовском Музее церковных древностей.
Прежде чем приступить к очередной иконописной работе, требовательный к себе художник колеблется, слыша заявления близких друзей, в частности, Олсуфьева, что “теперь икону в строгом смысле написать нельзя, что ничего, отвечающего религиозному чувству, не напишем, пока в совершенстве не овладеем способом выражения древнерусского искусства”. “Тем не менее, — писал Комаровский, — нельзя не стремиться к этому, хотя бы заведомо зная, что наши иконы пока будут неудовлетворительными с точки зрения внутреннего содержания”. И глубоко верующий, прекрасно знакомый с иконописью древних мастеров, он с благоговением продолжал труд иконописца. В 1913-1915 годах при участии Д. С. Стеллецкого Комаровский создал иконостас для церкви преподобного Сергия Радонежского на Куликовом поле, в селе Буйцы Епифанского уезда Тульской губернии. По отзывам видевших его современников, это был великолепный художественный ансамбль, стилистически связанный с архитектурой храма, построенного по проекту А. В. Щусева (1908) в традициях древнерусского зодчества (освящён в 1918 году). Кисти Комаровского здесь принадлежало большинство произведений: царские врата, ярус праздников, деисусный чин и большая часть икон местного ряда, а Стеллецкий, ещё до окончания работ навсегда покинувший Россию, написал иконы пророческого ряда.
Работа над иконостасом производилась в имении деда Комаровского Ракша Моршанского уезда Тамбовской губернии и получила высокую оценку близкого друга Комаровского и заказчика иконостаса Ю. А. Олсуфьева, знатока и строгого ценителя искусства, который телеграфировал художнику: “Сегодня открыли иконы. Поражены красотою”.
Сейчас известно единственное случайно сохранившееся произведение из этого иконостаса, вывезенное владельцем имения из Буйцов, — образ преподобного Сергия Радонежского работы Комаровского — замечательный образец канонической иконописи, ориентированный на творческое переосмысление древнерусских художественных традиций, настоящая, высокого стиля и уровня духовного содержания икона, которую некоторые принимали за подлинное произведение шестнадцатого века.
Пишущему эти строки в 1970-х годах посчастливилось не раз любоваться этой дивной иконой в московской квартире племянницы Ю. А. Олсуфьева Екатерины Павловны Васильчиковой (1896-1994). На всю жизнь отложился в моей памяти этот поясной, на белоснежном фоне образ с молитвенно протянутыми руками, мягко светящийся благородного оттенка багор на одежде святого, тонкие лессировки его вдохновенно-молитвенного лика.
Екатерина Павловна, добрая моя знакомая, всю свою долгую жизнь бывшая близкой с семьёй Комаровских и даже состоявшая с ними в родстве, входила в круг лиц, послуживших живым связующим звеном между героем этого повествования и мной. Её рассказы о Владимире Алексеевиче Комаровском наряду с другими подвигли меня заняться изучением его жизни и творчества [1] См.: Сергеев В. Н. В. А. Комаровский (1883-1937) — иконописец XX столетия // Журнал “Златоуст”. № 2. 1993. С. 234-241; Он же. Комаровский Владимир Алексеевич // Православная энциклопедия. Т. 3б. М., 2014. С. 500-503.
. Что касается иконы преподобного Сергия Радонежского, то впоследствии она была пожертвована владелицей в единственную действовавшую тогда церковь близ Куликова поля в селе Рождествене — Монастырщине.
О печальной участи церкви на самом Куликове поле и её иконостаса с горечью поведал А. И. Солженицын в рассказе “Захар-Калита”: “Церковь во имя Сергия Радонежского, сплотившего русские рати на битву, построена, как добрая крепость... Две круглых крепостных башни. Немногие окна — как бойницы. Внутри же не только всё ободрано, но нет и пола, ходишь по песку. Спросили мы у Захара. — Ха-га-а! Хватились! — позлорадствовал он на нас. — Это ещё в войну наши куликовские все плиты с полов повыламывали, себе дворы умостили, чтобы ходить не грязно. Да у меня записано, у кого сколько плит... Ну да, фронт проходил, тут люди не терялись, ещё наперёд наших иконостасные доски пустили землянки обкладывать да в печки”...
Конечно, церковь, переданная верующим, давно уже приведена в идеальный порядок, в ней теперь совершается служба, но чем восполнить утрату замечательных икон, погибших от извечного нашего варварства и равнодушия?
С началом Первой мировой войны Комаровский, освобождённый от службы в армии в связи с тяжёлой хронической болезнью, находился на Кавказе, где включился в работу Всероссийского земского союза, занимаясь организацией лазаретов для раненых. В 1915 году по заказу Ю. А. Олсуфьева он написал большие иконы Спасителя и Божией Матери для Успенской церкви русского Ольгина монастыря близ Мцхеты (Грузия; местонахождение икон неизвестно).
Летом 1917 года Комаровский с семьёй переехал из Петербурга в Подмосковье, в имение своей жены Варвары Фёдоровны Измалково, расположенное вблизи станции Переделкино по Киевской железной дороге. Их большой, вместительный дом вскоре принял лишившихся крова родственников и друзей. Об этих годах жизни художника читаем в воспоминаниях Ксении Петровны Трубецкой, урождённой Истоминой “После того, как отца освободили, — пишет мемуаристка, — Алексей Владимирович и Варвара Фёдоровна Комаровские пригласили нашу семью в её подмосковное имение Измалково. Переехали мы туда летом 1917 года и прожили около шести лет. После нас приехала в Измалково семья Осоргиных... В шутку наше сожительство называли “Искомое” (Истомины, Комаровские, Осоргины). Вскоре после приезда Осоргиных, по зимнему пути из их имения Сергиевское на Оке приехали на трёх санях тамошние крестьяне. Они привезли всякие деревенские угощения, рассказывали о своей жизни, радовались свиданию. Прекрасные отношения с крестьянами соседних деревень были и у Самариных, а позднее — и у Комаровских. Помню рассказы о том, что в случаях несчастий по хозяйству — пала ли лошадь или корова, случился ли пожар — никогда не было отказа в помощи... Вспоминаю некоторые случаи из измалковской жизни. Но сперва скажу, что в начале ещё сохранялось некоторое хозяйство. Были три коровы и две лошади... Наши старшие совместно возделывали большой огород, сажали картошку, заготовляли сено. На Рождество устраивали нам великолепные ёлки, изукрашенные и сияющие зажжёнными свечами”.
Эти безмятежные детские воспоминания приходятся на трудные для Комаровского годы, когда он сильно бедствовал, преподавая рисование в сельской школе, перебиваясь случайными заработками, и в первый раз был арестован.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: