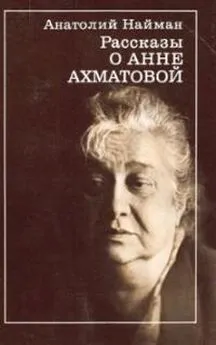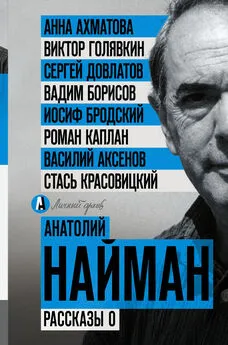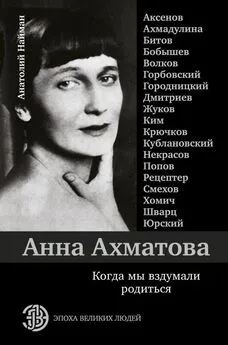Анатолий Найман - Рассказы о Анне Ахматовой
- Название:Рассказы о Анне Ахматовой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1989
- ISBN:5-280-00878-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Найман - Рассказы о Анне Ахматовой краткое содержание
Рассказы о Анне Ахматовой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Молодой московский поэт, мой знакомый, попросил договориться о встрече с яеЙ. Я сказал ей об этом, рекомендовал его, она спросила, не помню ли я каких–то его стихов. Я прочел две строчки из юношеского стихотворения: «Ко всем по–разному приходит осень — стихами, женщинами, вином». «Слишком много женщин», — произнесла она. Но принять не отказалась.
Или о входившем тогда в моду поэте, которого условно назову Альбертом Богоявленским: «Как может называть себя поэтом человек, выступающий под таким именем? Не слышащий, что русская поповская фамилия несовместима с заморским опереточным именем!» И когда я попытался защитить его, мол, спрос с родителей, последовало: «На то ты и поэт, чтобы придумать пристойный псевдоним».
Как–то раз принесли почту, она стала читать письмо от Ханны Горенко, ее золовки, я — просматривать «Новый мир». Через некоторое время она подняла голову и спросила, что я там обнаружил. «Евтушенко». Она попросила прочесть стихотворение на выбор: «А то я его ругаю, а почти не читала». Стихи были про то, что когда человеку изменит память и еще какая–то память, вторая (кажется, сердца), то е ним останется третья: «Пусть руки вспомнят то–то и то–то, пусть кожа вспомнит, пусть ноги вспомнят пыль дорог, пусть губы…» В стихотворении было строф десять, я заметил, что после третьей она стала слушать невнимательно и заглядывать в недочитанное письмо. Когда я кончил, она сказала: «В какой–то мере Ханнино письмо скрасило впечатление… Какие у него чувствительные ноги!»
В других стихах, которые я прочел в электричке по пути в Комарово, модный в то время ленинградский поэт вымученно и не очень изобретательно варьировал такую тему: дескать, в грядущем веке появится врзможность искусственно воссоздавать людей, живших прежде И тогда плохие, так сказать, реакционеры, будут воспроизведены во многих экземплярах, чтобы служить наглядным пособием в школах, а хороших, прогрессивных — более чем 8 одном вылепить не удастся. Я запомнил только, что Магометов будет чуть йе полтора десятка, а вот Маяковский — один. «Позвольте, — сказала Ахматова, — это не только пошло, это еще и выгодно».
Вскоре после революции у нее на глазах произошло то, что гордо и глубокомысленно стало называть себя переориентацией интересов поэзии. Однако внешняя убедительность формулы, апломб, с которым она произносилась, были призваны в первую очередь обмануть читателя, внушить ему законность измены тому, отказа от того, что делает стихи поэзией. Только частное мнение, особый взгляд — словом, личные стихи наделены правами представительствовать «за всех», говорить «от имени всех», точнее каждого То есть: и я помню чудное мгновенье, и от меня вечор Лейла, и вообще он все это «про меня сказал».
Новая установка говорить «от имени народа», «за всех людей» разворачивала взгляд поэта, теперь он должен был направляться не внутрь, а вовне. Допускалось (и поощрялось! совпадение обоих направлений с непременным первенством нового. «Мы» вытесняли из поэзии «я», впрямую и прикровенно: скажем, «я разный, я натруженный и праздный», несмотря на индивидуальность опыта и переживания, годилось, потому что предполагается, что «как и многие», «вместе с другими»; а что- нибудь вроде «все мы бражники здесь, блудницы» — по понятным причинам нет, Множество предметов и тем, так называемых изжитых или камерных и потому осмеянных, стали официально и, что несравненно существенней, по велению сердца запретными. Не свое по возможности обобщалось, а общее, по замыслу, усваивалось. Автор в самом деле шел навстречу читателю, умело вербовал его, получал многотысячную аудиторию, но спекулируя на поэзии, давая читателю все, что тот хочет, а не то, что он, автор, имеет. Ахматова сказала о В—ском, в 60‑е годы быстро набиравшем популярность: «Я говорю со всей ответственностью: ни одно слово своих стихов он не пропустил через сердце».
Между тем «мы» в лирической поэзии имеет вполне конкретное — и никакого другого — содержание: я и ты, он и она, группа близких или друзей, которых поэт может назвать поименно. Только так ограниченное «мы» становится большим, общим. Друзья мои, прекрасен наш союз, наш, лицеистов, Дельвига, Пущина и других и потому всех, кто «лицеист», постольку поскольку «лицеист». Мы живем торжественно и трудно, мы, петербуржцы, узнающие друг друга на улицах в лицо, и потому всех, кто отравлен и пленен этим ~ или таким же своим — городом, постольку поскольку отравлен и пленен. В стихах военного времени «А вы, мои друзья последнего призыва» Ахматова говорит о своем долге «крикнуть на весь мир все ваши имена», а в «Победителях» и называет их: Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки — внуки, братики, сыновья.
В 1961 году, в больнице, она написала стихотворение «Родная земля». Оно состоит в немалой степени из клишированных формул, разве что взятых с обратным знаком: «о ней стихи навзрыд не сочиняем», «о ней не вспоминаем» и т. д. В них нет присущей ее стихам остроты, многие строчки кажутся прежде читанными, и уж совсем не ахматовски звучит «мы», неопределенно, без конкретного адреса. Если бы не две строчки, а точнее два слова в них, которые ставят все на свое место. «Но мы мелем, и месим, и крошим тот ни в чем не замешанный прах». Месим и крошим — это посланный через четверть века отзыв на пароль Мандельштама: «Аравийское месиво, крошево» (в «Стихах о неизвестном солдате»). Это их прах, может быть, товарищей по «Цеху поэтов», Гумилева, Мандельштама, «ни в чем не замешанных», может быть, шире: друзей молодости, которых «оплакивать мне жизнь сохранена». Еще отчетливее именно такая адресованность этого стихотворения проявляется в напрашивающемся сопоставлений с другим, написанным меньше чем через три года, «Земля хотя и не родная». Оно тоже содержит, особенно концентрированно в последнем четверостишии, штампы–образчики, представляющие, однако, «не родную, но памятную навсегда» поэтику символистов: «А сам закат в волнах эфира такой, что мне не разобрать, конец ли дня, конец ли мира, иль тайна тайн во мне опять». Здесь и ставшая общим местом критика символизма: «Когда символист говорит — закат, он имеет в виду — смерть»; и насмешливое ахматовское воспоминание: «Если символисту говорили: «Вот это место в ваших стихах слабое», — он высокомерно отвечал: «Здесь тайна!» Любопытно, что предыдущие две строчки как бы демонстрируют акмеистическую обработку символистских по преимуществу угодий — «закатных»: «И сосен розовое тело в закатный час обнажено».
(«Мы шли в гору. Мы были дерзкие, удачливые, беспастушные», — говорила она. Символизм, метров которого они и в начале пути и в продолжении жизни, несмотря на все претензии к ним, почитали, переживал кризис. «Мы пошли в акмеизм, другие — в футуризм». Однажды, к слову, я сказал, что если оставить в стороне организационные мотивы и принципы объединения, то поэтическая платформа — и программа — символистов во всяком случае грандиозней акмеистической, утверждавшейся главным образом на противопоставлении символизму. Ахматова — глуше, чем до сих пор, и потому значительней–произнесла: «А вы думаете, я не знаю, что символизм, может быть, вообще последнее великое направление в поэзии». Возможно, она сказала даже «в искусстве».)
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: