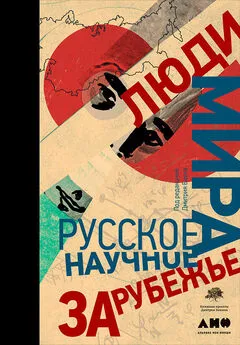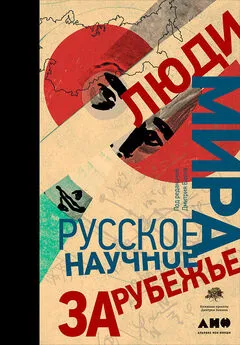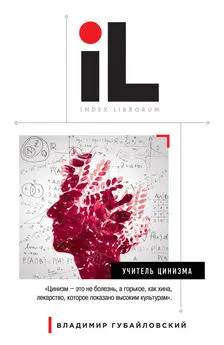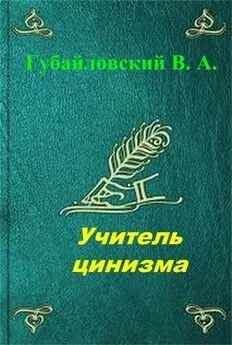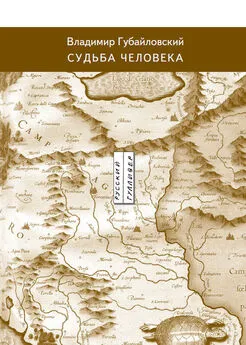Владимир Губайловский - Люди мира. Русское научное зарубежье
- Название:Люди мира. Русское научное зарубежье
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Альпина нон-фикшн
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9614-5066-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Губайловский - Люди мира. Русское научное зарубежье краткое содержание
Однако при ближайшем рассмотрении проблема оказалась еще сложнее. Мы не собирались ограничиваться рассказом только лишь об эмигрантах: русское научное зарубежье — понятие значительно более широкое. Но даже если говорить именно об эмиграции, то самая высокая ее волна пришлась, как выяснилось, не на 1920–1930-е, а на 1895–1915 годы, и присутствие интеллигенции в этом потоке уже довольно заметно. Так что захват власти большевиками был не причиной, а скорее следствием вытеснения интеллектуальной элиты из страны. Тем не менее факт неоспорим: именно с их приходом процесс стал самоподдерживающимся, а поначалу даже лавинным. Для того чтобы как-то задержать отток интеллекта и культуры за рубеж, надо было поставить на его пути непреодолимую преграду — лучше всего частокол, колючую проволоку, вышки, солдат с собаками и автоматами…
Люди мира. Русское научное зарубежье - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Без малого три десятилетия научных исследований русского зарубежья принесли уже немало результатов. Дома у одной своей коллеги я видел целую библиотеку в полторы-две тысячи томов исключительно по этой проблеме, не считая рукописей и журнальных публикаций. Ключевым событием традиционно считается 1917 год, положивший начало так называемой первой волне советской эмиграции. Ее нижняя временнáя граница очевидна, но верхняя несколько более подвижна: это может быть и 1939, и 1935 год, а в некоторых публикациях она даже проводится по 1922-му. Однако в любом случае после нэпа массовая эмиграция из СССР стала невозможна. Страну прочно закрыли, и покинуть ее удавалось единицам. По данным известного исследователя русской научной эмиграции Татьяны Ивановны Ульянкиной, которая часто будет цитироваться на страницах этой книги, после 1925 года отъезды почти прекратились. Правда, начало новой мировой войны повлекло за собой и новую, вторую волну эмиграции, но ее природа иная и о ней будет сказано позже.
Намерению начать книгу с этой естественной нижней границы воспротивился сам материал, с которым мы работали. Эта книга не просто об эмиграции — она о российских ученых и инженерах, реализовавших свои таланты за пределами России. Один из крупнейших российских историков Олег Витальевич Будницкий любит повторять, что предреволюционная эмиграция из Российской империи значительно превосходит эмиграцию из СССР. Ее демографическая оценка обычно принимается на уровне четырех с половиной миллионов, хотя какова статистическая погрешность, установить довольно трудно. Немаловажно и то, что многие (в некоторых социальных группах до 18 %) эмигранты этой «досоветской» волны в середине 1930-х «вернулись» в СССР (кавычки тут потому, что из СССР они, строго говоря, и не уезжали), чтобы потом на протяжении десятилетий становиться первыми жертвами любой из волн репрессий. И много ли потенциальных героев нашей книги среди этих эмигрантов?
Проще ответить на вопрос, много ли их среди эмигрантов первой советской волны. Ученых и преподавателей университетов и высших технических школ, покинувших СССР к 1931 году, в картотеке Татьяны Ульянкиной насчитывается 1612 человек, включая четверть всех членов Императорской академии наук. Как это ни много, но все же менее промилле от общей численности этой волны, составившей, по разным оценкам, от двух до трех миллионов. Таким образом, статистика говорит нам, что доля ученых, покинувших Россию после 1917 года и, как мы можем предположить, по причинам, которые стали неизбежны после прихода к власти последователей Маркса и Ленина, в общем потоке эмиграции ничтожна. В то же время она более чем значима, если сравнивать количество уехавших ученых с количеством оставшихся. Однако та же статистика говорит нам, что гораздо больше эмигрантов по разным причинам покинули страну до революции 1917 года, и доля ученых в этой волне совсем не велика, даже если сравнивать их число не с количеством уехавших вообще, а с количеством оставшихся деятелей науки. Однако дело не в статистике.
Типический эмигрант этого периода оказывался за границей либо в поисках лучшей доли, либо убегал от погромов, конфессиональных или этнических притеснений и не рассчитывал на возвращение. Российский ученый в XIX веке не мог возникнуть иначе как из-за границы, где ему надо было получить образование и набраться опыта. Для него тема возвращения была открыта всегда, если только он не вступал в откровенное противостояние режиму. Даже задержавшиеся во Франции или в Германии долее положенных пяти лет всегда могли испросить высочайшего дозволения и в силу единичности таких случаев гарантированно получить его. Дореволюционная российская наука не могла существовать в отрыве от мировой, но в дореволюционном русском зарубежье почти не было эмигрантов.
Когда в годы перестройки исследования русской эмиграции только начинались, было совершенно естественно смотреть на проблему в советской перспективе: кто, как, когда и при каких обстоятельствах покидал именно СССР. Тот факт, что между 1918-м и 1921-м мы имеем дело не с СССР, а с почти не управляемой территорией, на которой то тут, то там возникали и разрушались временные псевдогосударства с политическими режимами разной этиологии и разным периодом полураспада, в данном случае не очень существенен: Российская империя к тому времени рухнула, а оставшееся после нее пространство, как сказал бы Ленин, в глазах историка уже беременно Советским Союзом. Но с тех пор перспектива существенно изменилась.
Принято считать, и не без определенных оснований, что наука представляет собой одно из наиболее космополитических предприятий в человеческой истории. Ведь она основана на разуме, наблюдениях, опыте — то есть на тех источниках знания, к которым человек имеет доступ независимо от расы, нации, языка или классовой принадлежности. Перемещение через границы всегда считалось прерогативой ученых, и даже в период религиозных войн на заре Нового времени это право никем не оспаривалось. Математик Ретик, будучи немецким протестантом и человеком близким Меланхтону, провел год в епископской части Польши, изучая рукописи Коперника, несмотря на прямой запрет протестантам находиться там. За протестанта же Кеплера в католическом Граце, когда оттуда изгоняли протестантов, вступились иезуиты, добившись для него права задержаться в этом городе.
Космополитический характер науки в России еще более очевиден. И Академия наук, и первый русский университет создавались по европейским меркам, по советам европейских ученых и даже при их непосредственном участии. Потом на протяжении двух веков серьезное образование для жителя Российской империи предполагало обучение, более или менее продолжительное, в одном из европейских университетов. Михаил Васильевич Ломоносов три года учился в Марбургском университете, потом год во Фрайбургском; Дмитрий Иванович Менделеев более двух лет «совершенствовался в науках» в университете Гейдельберга; Климент Аркадьевич Тимирязев три года практиковался в нескольких лабораториях видных немецких и французских ученых; Леонид Исаакович Мандельштам уехал в Страсбургский университет в 1898 году и оставался там до 1913-го — сначала в качестве студента, потом, после защиты диссертации, ассистента — и вернулся в Одессу уже полным профессором; даже Лев Давидович Ландау успел провести за границей три года, продолжая образование в Берлине, Лейпциге, Копенгагене и Кембридже. Сама природа научного труда делает его космополитичным.
И это еще не все. Вторая половина XIX века проходила под знаком расцвета космополитических идей. Одним из его проявлений стал затеянный в 1887 году Парижской обсерваторией проект Carte du Ciel («Карта неба») — создание единого астрографического каталога всех видимых звезд до 12-й звездной величины (это примерно соответствует Проксиме Центавра). В реализации проекта участвовали 22 обсерватории разных стран мира в обоих полушариях, включая расположенные на территории Российской империи. Они следовали единым правилам проведения наблюдений, их персонал подчинялся единым нормам, и между разными задействованными в проекте научными коллективами происходил свободный обмен научной информацией.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: