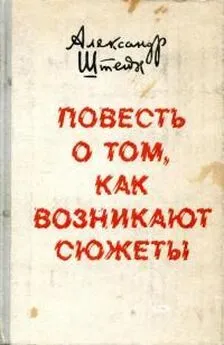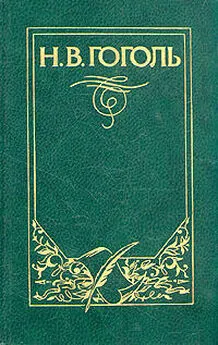Александр Штейн - Повесть о том, как возникают сюжеты
- Название:Повесть о том, как возникают сюжеты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1981
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Штейн - Повесть о том, как возникают сюжеты краткое содержание
В этой книге читатель встретит, как писал однажды А. Штейн, «сюжеты, подсказанные жизнью, и жизнь, подсказывающую сюжеты, сюжеты состоявшиеся и несостоявшиеся, и размышления о судьбах сценических героев моих пьес и пьес моих товарищей, и путешествия, и размышления о судьбах моего поколения…».
О жанре своей книги сам автор сказал: «Написал не мемуары, не дневники, не новеллы, но и то, и другое, и третье…»
Повесть о том, как возникают сюжеты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вспомнили в праздничный канун и Кронштадт, и «Л-3», и, конечно, Зонина, стоявшего тогда рядом с ним, на мостике.
Грищенко сказал мне то, чего я не знал: прошло несколько месяцев после похорон, и урну с прахом Зонина бросили в море. Это была предсмертная воля — быть похороненным там, где он ходил походами. Один из участников похода прислал Грищенко письмо, в котором точным морским языком рассказал об этой печальной процедуре:
«Баренцево море, 31 мая 1962 года, четверг. 20.33. Легли в дрейф. Приспущен военно-морской флаг. Свободная от вахты команда построена на юте по сигналу «большой сбор». С кратким памятным словом выступил командир корабля.
21.30. Урна с прахом писателя-моряка Александра Ильича Зонина предана морю в 69°0′ северной широты и 34°30′5″ восточной долготы.
Ветер северо-восточный, 4 балла, море — 3 балла, видимость — 5 миль, дождь».
Довженко писал в своих дневниках, опубликованных после его смерти:
«Боец хоть и с недостатками, все же боец, а безупречная муха — все же муха».
Зонин был из таких: с недостатками, но боец, а не муха.
«ВЛЕЧЕНЬЕ, РОД НЕДУГА…»
Кронштадт на траверзе…
Смотрю, смотрю так, что глаза краснеют от напряжения. Кронштадт на траверзе…
Упершиеся в море бастионы Кроншлота, доки, корабли, путаница мачт и кранов.
Как случилось, что судьба моя, человека насквозь штатского, ненавидящего автоматизм муштры, казенные тумбочки, койки, заправленные по единому образцу, любящего засыпать, а не «отходить ко сну», иметь по своему усмотрению свободные часы, а не «личное время», согласно раз навсегда заведенному порядку, — как же случилось, что судьба моя, литературная, военная, человеческая, столь тесно переплелась с этим невеселым островом?
Да, что бы и как бы ни писали мы о нем возвышенно-романтическо-приподнятое, — городом-казармой, где даже линиям классического русского ампира придан неуловимо казенный отпечаток…
Почему всякий раз, когда я думаю о Кронштадте, а тем более когда выходит мне вновь повстречаться с ним, теснит сердце странностью чувства, не пойму, чего в нем больше: грусти, гордости, нежности, надежды, досады, любви, тоски или всего этого вместе?
Пламень кленов в Петровском парке, как в ту осень, тот же император в бронзовом кафтане, — разбудите ночью — наизусть скажу надпись на постаменте, подернутую зеленоватой окисью:
«Оборону флота и сего места держать до последней силы и живота, яко наиглавнейшее дело».
Флот… «Влеченье, род недуга…»
Сюда, в Кронштадт, в дни двухсотпятидесятилетия крепости, заложенной царем Петром на нелюдимом острове Котлин в 1703 году, приехал из Москвы Борис Андреевич Лавренев.
Задыхаясь и легкостью и подчеркнутой непринужденностью движений, стараясь скрыть это от разглядывающих его с борта внимательных молодых глаз, он взбирается по колеблемому волнами и ветром трапу на учебную канонерку.
Ветер треплет флаг на корме, и стучит волной о стальной бок корабля, и негодующе атакует мягкую «штатскую» шляпу Лавренева, элегантную, как все на нем, но не рассчитанную на свирепые морские обстоятельства.
Сердце бьется учащенно — бедное изношенное сердце, которое уже не в силах наладить ни микродозы знаменитых гомеопатов, ни новые открытия фармакологии. Это сердце билось три войны — ритмы его сливались с самыми учащенными ритмами революции — и устало.
Добирался с материка в непогоду на катерке, а ведь еще вчерашний день полеживал на своем старом павловском диване, переехавшем с ним из Ленинграда в Москву: постучит-постучит на машинке одной рукой, держась за сердце другой, а потом опять приляжет. Но оно же, сердце, велело — и приехал, и вот уже на непокойной палубе, с мальчишеским любознайством заглядывает, нагибаясь, — он очень высок, выше всех стоящих рядом, — в окуляры модернизированных, новых для него аппаратов и с нетерпеливой жадностью человека, чувствующего приближение ухода, всматривается в свежие, подернутые легким балтийским загаром лица молодых штурманов; лица окаймленные, как портреты в овальной рамке, блестящими, лакированными ремешками, спущенными с козырьков фуражек, и мужественны, и вместе нежны, и оттого особенно обаятельны. «Здравствуй, племя младое, незнакомое», — говорит он, улыбаясь, как бы наново постигая памятную всем нам с детства пушкинскую строчку. И вот уж катер с ним и его товарищами, подкидываемый тугой волной, пришвартовывается к другому кораблю, и вот такая же нелегкая швартовка у третьего: это встречи с кораблями и одновременно прощания. Через несколько лет упадет внезапно на крыльцо, в последний раз схватившись за сердце, и его внесут, открыв обе створки дверей, в квартиру у Москвы-реки и осторожно положат на тот самый петербургский диван, и из крохотной портативной машинки будет торчать осиротевший лист с началом повести о флоте: он начал писать ее утром, в день смерти…
Мне было пятнадцать лет, когда я увидел странную, очень длинноногую фигуру в длинной артиллерийской шинели, в смятой фуражке с пушками крест-накрест, лихо подкатившую к дому редакции «Туркестанской правды» на дребезжащем, дряхлом велосипеде. Это был Бек, фельетонист.
Своими злыми стихотворными памфлетами наводил он страх на нэпманов, пооткрывавших «Чашки чая» и шашлычные «Прогресс» по всему Ташкенту; на владельцев чайхан, где тайком курили анашу; на бывших чиновников, обшивших защитным сукном пуговицы с царским вензелем; на взяточников; на скупщиков краденых царских золотых десяток; на баев, обманом завладевших драгоценной на поливных землях водой, — все это кишело и пузырилось в те годы на среднеазиатской поверхности в несметном числе. Бек разил все это и ямбом и хореем, имя его было известно в Ташкенте, да не только в Ташкенте, если судить по письмам, потоком лившимся в редакцию, во всей Средней Азии.
Впрочем, у Бека был соперник, и достойный. С ним конкурировал другой фельетонист, такой же поборник правды и такой же в этом неистовый, почему-то избравший псевдонимом название труда Энгельса «Анти-Дюринг». Имя ему было Анисифор. И Анисифор Антидюринг тоже действовал главным образом ямбом и хореем, не брезгуя иногда и гекзаметром.
Позже я, изумленный, узнал, что Бек, равно как и соперничающий с ним Анисифор Антидюринг, — автор эгофутуристических стихов, публиковавшихся в десятых годах нашего века; и — отравленный газами артиллерийский офицер на Западном фронте в первую мировую войну; и — командир бронепоезда в воину гражданскую; и — начарт в полевом штабе Подвойского; и — участник операции по уничтожению банды атамана Зеленого; и — тяжело раненный в бою с бандитами у разъезда Карапцыши; и что Бек и Анисифор Антидюринг, наконец, это не Бек и не Анисифор Антидюринг, а един в двух лицах Борис Андреевич Лавренев.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: