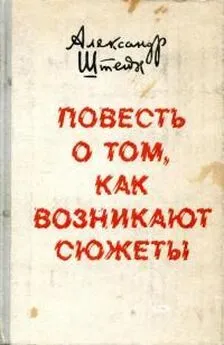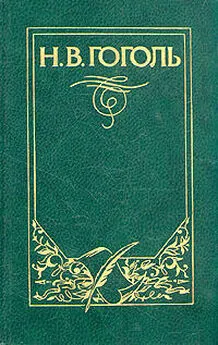Александр Штейн - Повесть о том, как возникают сюжеты
- Название:Повесть о том, как возникают сюжеты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1981
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Штейн - Повесть о том, как возникают сюжеты краткое содержание
В этой книге читатель встретит, как писал однажды А. Штейн, «сюжеты, подсказанные жизнью, и жизнь, подсказывающую сюжеты, сюжеты состоявшиеся и несостоявшиеся, и размышления о судьбах сценических героев моих пьес и пьес моих товарищей, и путешествия, и размышления о судьбах моего поколения…».
О жанре своей книги сам автор сказал: «Написал не мемуары, не дневники, не новеллы, но и то, и другое, и третье…»
Повесть о том, как возникают сюжеты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А Головко притащил сверху патефон, поставил пластинку, любимую, которую мог слушать бесконечно. Пластинка куплена им в Париже, на Севастопольском бульваре, когда он, «Дон Алонзо», возвращался из побежденной Испании. Это вальс, незатейливый, с простенькой мелодией, в духе «Под крышами Парижа», а может быть, чем-то похожий и на вальс «На сопках Маньчжурии», он трогателен, наивен, и у слушавших его теснит грудь. А может быть, это оттого, что за окном русская метель, но говорят про Испанию, и шумят слова «Гвадалахара», «Барселона», «Картахена», фамилии Листера, Ларго Кабальеро, Хозе Диаса, Эренбурга, Кольцова, Хемингуэя; читают, конечно, стихи Светлова про Гренаду, и все-все кажется Юрию Павловичу необыкновенно прекрасным, и у него блестят глаза от умиления.
А тут Головко приглашает его пройти наверх, в кабинет, по лестнице, которая тут, разумеется, называется трапом. И они скрываются наверху. Они там остаются вдвоем, очень долго только вдвоем, все ждут их, время ехать, и наконец они спускаются.
И оба, и Герман и Головко, — какие-то просветленные, и молчаливые, и загадочные…
И, выпив посошок на дорогу, все отправляются в переднюю.
Когда Герман надевает свое демисезонное пальтецо довоенного шитья, Головко восхищается и ставит в пример всем военным морякам писательскую недюжинную закалку. Герман стыдливо улыбается.
— Юрочка, — виновато говорит жена, — я забыла, которая шуба моя. Ведь все-таки она чужая.
— Тише, — шепчет Герман. — И вспомни, если можешь…
— Может быть, ты вспомнишь, — жалостно шепчет жена.
— Все-таки, — шепчет он с фальшивой ласковостью, — она была на тебе, а не на мне…
— Берите любую, там разберемся, — ликвидирует назревающую семейную ссору подошедший и регистрировавший своим морским глазом все ЧП Головко.
Дамы тем временем оделись. К счастью, на вешалке остается лишь одна дамская шуба. Ее и берут.
Всю дорогу Юрий Павлович едет молча, забыв даже попилить жену за инцидент в передней.
Он полон всем, что случилось в это воскресенье, хотя в это воскресенье ничего особенного не случилось. И, очевидно, последним разговором один на один там, на втором этаже…
Когда мы подъезжали к Москве и сквозь метель замаячили ее неясные огни, сказал, вроде бы ни к кому в машине не обращаясь:
— Спросил его: почему вы, командующий флотом, зная, что тут, у вас на флоте, есть писатель, имя которого, вероятно, вам было известно, и, может быть, еще задолго до войны, не пригласили меня к себе?
— Что он сказал?
— «Я стеснялся». Именно потому, что считал меня писателем, — стеснялся. И сам спросил, между прочим, весьма сердито: «А вы, едрена качель, почему вы не пришли ко мне?»
— Что ты сказал?
— «Я стеснялся».
Чеховское…
И много месяцев спустя, всякий раз, когда заходила речь об адмирале Головко, голос его менялся, становился низким, грудным, как всегда, когда он говорил о чем-то необыкновенно значительном и умилявшем его…
И писал мне о записках Головко, опубликованных вскоре после этого свидания в «Новом мире».
«Передай Арсению Григорьевичу, что его записки мне необыкновенно помогли. В них есть настоящая и точная точка зрения — то, чего я не знал, так как это время был в Архангельске. Пишет ли он дальше? Если не пишет, то это очень печально».
А спустя пятнадцать лет после этого воскресенья пишет мне из Ленинграда:
«Я очень обрадовался твоему письму, хотя оно и не слишком веселое. Все мы почему-то перестали писать друг другу, а письма все-таки штука приятная. Обычно я, не знаю, как ты, но я — получаю только повестки на разные заседания…
…Про Головко — все это невыносимо! Какая-то дикая закономерность: умирают хорошие люди!»
Эта дикая закономерность очень, очень скоро коснется и его самого…
…и Дзержинский.«Наши знакомые» — знаменитая книга Германа, необыкновенной популярности у читателя тридцатых годов. Ею зачитывались, одни наши знакомые крали ее у других наших знакомых. Кроме всего прочего, это была беллетристика, со свойственной истинной беллетристике непринужденностью и легкостью изложения, с той самой занимательностью, когда нельзя оторваться от страниц и жаль, что где-то все же роман должен кончиться…
Стало быть, сила Германа в изображении судеб людей обыкновенных, простых, чьи биографии — биографии миллионов?
Но почему же в ответ на вопрос интервьюера: «Кого же все-таки можно считать вашим самым любимым героем?» — отвечает коротко: «Дзержинского».
Почему Дзержинского? Только ли потому, что при встрече с Горьким тот присоветует написать книжечку для ребят о Дзержинском и расскажет о том, что Дзержинский спросил Горького: «Алексей Максимович, когда же отпадет необходимость в жестокости?»
Но ведь биография Дзержинского не рядовая, а из ряда вон выходящая, сам он личность более чем незаурядная, своеобразнейшая, не боюсь сказать — исключительная.
Может быть, потому, что исключение подтверждает правило?
Или потому, что в Дзержинском для Германа воплотился облик идеального человека революции, выражаясь его же, Германа, словами, — «центральный характер»?
Попробуем понять, на чем фокусирует свое внимание Юрий Павлович, изучая эту биографию и, в частности, книгу воспоминаний жены Дзержинского, Софьи Сигизмундовны.
«Никто никогда не замечал в его взгляде выражения безразличия».
Это уже не могло не привлекать Германа с его ненавистью к равнодушию.
Герман читает об американской скульпторше Шеридан — она лепила Ленина. Лепила и Дзержинского. Что выписывает из ее воспоминаний Герман?
«А руки его — это руки великого пианиста или гениального мыслителя. Во всяком случае, увидев его, я больше никогда не поверю, больше ни одному слову из того, что пишут у нас о г-не Дзержинском».
Выписывает строки из письма Дзержинского жене в 1918 году:
«Жизнь солдата, у которого нет отдыха, ибо нужно спасать наш дом, некогда думать о своих и о себе. Работа и борьба адская. Но сердце мое в этой борьбе осталось живым, тем самым, каким было и раньше. Все мое время — это непрерывное действие».
И — строки из письма Дзержинского сестре:
«Не знаю, почему я люблю детей так, как никого другого. Я никогда не сумел бы полюбить женщину, как их люблю. И я думаю, что собственных я не мог бы любить больше, чем несобственных. В особенно тяжелые минуты я мечтаю о том, что взял какого-либо ребенка, подкидыша, и ношусь с ним, и нам хорошо…»
И — случай в тюрьме. Дзержинский сидел вместе с умирающим от чахотки революционером Антоном Россолом, тот в полубреду мечтал увидеть небо, — и Дзержинский, когда вывели арестованных на прогулку, взвалив Россола на спину, встал в строй. Прогулка продолжалась сорок минут. Останавливаться запрещено. Так Дзержинский носил Россола на спине все лето. Это тюремное лето навсегда сделало его сердце больным.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: