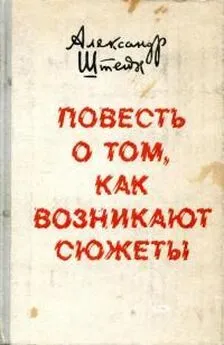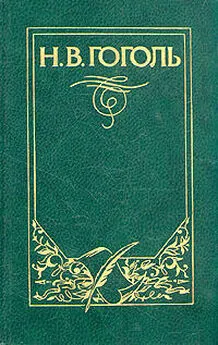Александр Штейн - Повесть о том, как возникают сюжеты
- Название:Повесть о том, как возникают сюжеты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1981
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Штейн - Повесть о том, как возникают сюжеты краткое содержание
В этой книге читатель встретит, как писал однажды А. Штейн, «сюжеты, подсказанные жизнью, и жизнь, подсказывающую сюжеты, сюжеты состоявшиеся и несостоявшиеся, и размышления о судьбах сценических героев моих пьес и пьес моих товарищей, и путешествия, и размышления о судьбах моего поколения…».
О жанре своей книги сам автор сказал: «Написал не мемуары, не дневники, не новеллы, но и то, и другое, и третье…»
Повесть о том, как возникают сюжеты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Приехала. Прочитала. Расплакалась.
Признаюсь, она меня растрогала, взволновала и удивила.
Не думалось, что поймет, взглянет на Вишневского чуточку со стороны, отойдя.
А вот сумела.
И что-то случилось с нею в этот вечер — давно уже не видел я ее такою мягкой, такою задумчиво-милой, с ласковой, нежной улыбкой, с глазами, светившимися добро и умно, с речью, где были и точки и запятые. Она слушала, спрашивала, шутила, сидя на диване, поджав ноги, распространяя запах духов, элегантная, женственная, несмотря на свои очень немолодые годы, и, глядя на нее, такую необычную, я вдруг точно ощутил, не понял, а именно ощутил, что же привлекало в ней Вишневского, почему он, не раз увлеченный другими женщинами, и не раз всерьез, неизменно возвращался к ней, и ее дом был и остался его единственным домом.
А через месяц после этого вечера получил от нее письмо, в котором она, «на правах старой дружбы», написала такое, отчего я взвился до потолка, почел себя глубочайше оскорбленным. Да, я был оскорблен в самых лучших намерениях и в самых лучших чувствах, ибо, когда я писал о Вишневском, вели меня самые лучшие чувства на земле — чувства друга. Она возмущалась, что я посмел описать горючие слезы его в оперетте: Вишневский — подумайте, Вишневский! — плакал на пошлой оперетте.
А он плакал, плакал, и это вовсе не было стыдным или унизительным для него, сурового воина, закаленного пулеметчика Конармии, матроса Балтийского флота, для него, бригадного комиссара!
Ведь и Арсений Головко, легендарный адмирал, видевший на войне столько смертей и сам не однажды, и в Испании и на Баренцевом море, заглядывавший смерти в пустые глазницы, — он плакал, я это видел сам, плакал, как девочка, на мхатовском спектакле, когда вели на казнь Марию Стюарт.
Ну что бывшему краснопресненскому комсомольцу до шотландской королевы!
А между тем он утирал слезы и сморкался, не стесняясь, и, уверяю вас, это не только не поколебало моего высочайшего уважения к боевым его качествам, а напротив, лишь заставило относиться к этому человеку еще более нежно.
Я рассказал об этом небольшом военно-театральном чепе писателю Юрию Герману, отлично знавшему Головко по Северному флоту, и Юрий Герман спустя некоторое время застенчиво признался мне в том, что не удержался и украл эти адмиральские слезы и отдал их своему любимому герою, Лапшину, начальнику уголовного розыска, перекочевавшему из маленькой довоенной повести в большой послевоенный роман «Один год».
А вот Софье Касьяновне горючие слезы Всеволода — в блокаде, в холоде, в бывшем Александринском театре, где играли и пели артисты театра оперетты, театра с голодным, дистрофическим кордебалетом, с оркестрантами в пальто и шапках, — эти горючие слезы, выдававшие всю его чистую, детскую непосредственность, ей представлялись чем-то унижавшим е г о, дискредитировавшим е г о как писателя, гражданина и комиссара.
Она категорически восстала против штанов, в которых я видел его в домике на Песочной и которые он подтягивал и в которых он вытянулся во фронт — в ответ на дружеское поздравление с наградой.
Он не мог, по ее гневному заключению, будучи больным, разговаривать «заплетающимся языком», хотя все друзья, видевшиеся с Вишневским в эти его последние дни, грустно констатировали, что он говорит с трудом, что речь его ото дня ко дню все более неотчетлива, неясна, сбивчива.
Она не могла допустить, что Всеволод робел перед начальством, — это ей резало ухо нестерпимо.
«Всеволод никогда не робел перед начальством! — писала она. — Нельзя путать д и с ц и п л и н у, которая была свойственна Всеволоду, с р о б о с т ь ю перед начальством. Всеволод всегда говорил им правду в глаза. И все его начальники никогда этого не подтвердят. А если бы это и было, в чьих интересах ставить в воспоминаниях друга в глупое положение?»
И как Всеволод мог «лакировать» и «подрумянивать», когда писал свой «Незабываемый»? Нет, кто угодно — Всеволод этого делать не мог.
И подчеркнула дважды — «не мог».
«Шурочка, — писала она далее своим размашистым почерком, — я Вам пишу, так как уверена в том, что меньше всего Вы хотели причинить Всеволоду вред. В этом я абсолютно убеждена. Но поймите — это будут читать люди, не з н а в ш и е его, будут читать недруги. Зачем Вам это?»
Зачем мне это? Затем, что я хотел сказать правду о Вишневском и тем, кто его знал, и тем, кто его не знал, и тем, кто его любил, и тем, кто его не любил, и тем, кто был его другом, и тем, кто был его недругом.
Я хотел объяснить Вишневского — так, как я его понимаю.
И послушай я Софью Касьяновну и сотри я те краски в портрете, которые требовала стереть она, Вишневский, быть может, стал бы помпезней, но непоправимо потерял бы в своей единственности, в своей человеческой, солдатской, какой хотите, привлекательности, — я в этом убежден.
Я наблюдал однажды в санатории, как появлялся в столовой некий деятель. Он знал, что его знают тут, и, заботясь о своем величии, о котором, возможно, история не позаботится, нес себя бережно, как хрупкую, тончайшего китайского фарфора вазу, нес, не глядя ни вправо, ни влево, усаживал себя за столик, за которым ждали, не начиная трапезы, вытренированные на молчаливую почтительность члены семьи.
….Всеволод Вишневский любил разговаривать запросто с историей, но, как вазу, себя не носил никогда.
Софья Касьяновна и не хотела, чтобы он был из фарфора.
Фарфор — нет. Бронза — да.
Она хотела бронзы.
А бронза Вишневскому не к лицу.
…Неделю спустя с грациозной непосредственностью С. К. забыла о своем письме и потребовала включения моей главы о Вишневском в том воспоминаний о нем — и включила ее сама.
Начиная с ночи, когда она, не доверяя ни одному столичному скульптору, снимала маску с его мертвого лица, она никому никогда не доверяла ничего, что было так или иначе связано с е г о именем.
Она стала е г о наместником на земле, а квартира ее — ставкой, штабом. В этом штабе заседала комиссия по литературному наследию, трудились редакторы Гослитиздата, Воениздата, «Советского писателя», «Советской России», рылись в архивах юные аспирантки, изучающие е г о труды, стучала машинка, перепечатывающая е г о ранние памфлеты, открытые ею в газетных хранилищах, свертывались в трубки материалы для выставки е г о творчества в Берлине, паковались комплекты библиотеки для вновь построенного корабля Черноморского флота, которому присвоено е г о имя. Следом за комплектом летела на Черное море сама Софья Касьяновна, захватив с собою того, на кого пал в сей раз ее неумолимый выбор, — Азарова так Азарова, Вершигору так Вершигору. И никто не смел ей перечить: обречено.
И каждый год вечером 21 декабря, в день его рождения, собирала она в угловой столовой, которую так любил Всеволод, его друзей, и друзья молча раздевались в передней, где на вешалке неизменно висело его пальто, и его флотская фуражка с золотыми дубовыми листьями, и его серый пиджак, символ мирного времени, о котором он писал в своих дневниках: и Таня-балтиец, как и при нем, ставила в угловой столовой штоф, рюмки, и первый тост был за него, живого, за его здоровье.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: