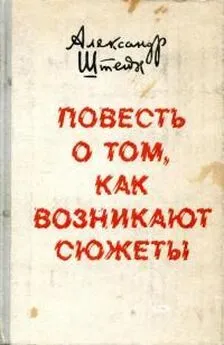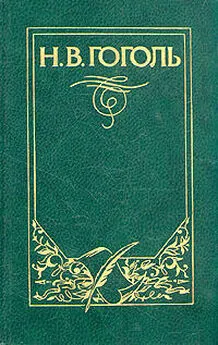Александр Штейн - Повесть о том, как возникают сюжеты
- Название:Повесть о том, как возникают сюжеты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1981
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Штейн - Повесть о том, как возникают сюжеты краткое содержание
В этой книге читатель встретит, как писал однажды А. Штейн, «сюжеты, подсказанные жизнью, и жизнь, подсказывающую сюжеты, сюжеты состоявшиеся и несостоявшиеся, и размышления о судьбах сценических героев моих пьес и пьес моих товарищей, и путешествия, и размышления о судьбах моего поколения…».
О жанре своей книги сам автор сказал: «Написал не мемуары, не дневники, не новеллы, но и то, и другое, и третье…»
Повесть о том, как возникают сюжеты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Понес тяжкие потери руководимый Бурианом театр: солдаты делят участь полководца.
Прошло бы время, я уверен, Буриан сам бы наново открыл, что такое художественно, иначе он не был бы Бурианом.
И, открыв, нашел бы пути исхода и вывел бы свой театр из беды.
Но Буриан умер.
Театр «Д-34», не выдержав свалившейся на него тяжести утраты, распался.
Люди театра разошлись по другим коллективам.
Буриан был в искусстве не спутником, а светилом. Не сиял отраженным светом — сам излучал сияние, сияние художественных открытий.
Вероятно, поэтому многое в художественной жизни Праги и по сей день связывают с его именем, с его почерком, с его поисками. «Тут от Буриана». «Это начинал Буриан». «Здесь работают ученики Буриана». «Об этом думал Буриан». Искры его таланта летают по городу и по стране, всякий раз рождая новое, необыкновенное — то ли это «Латерна магика», объехавшая полмира, и в ее чудесах есть доля Буриана, или пантомимическая труппа «На Забрадли», руководимая знаменитым Ладиславом Фиалкой, или новый театр «Семафор» на Вацлавской площади, осаждаемый каждый вечер публикой…
Поздней ночью в Градчанах, прощаясь, условливались встретиться, непременно встретиться, конечно, в Праге, конечно, в Москве. Сжал сильный, маленький кулак, поднял, как все антифашисты мира: «Ты наш друг, друг из Москвы. Узнай у Охлопкова, что такое художественно… Пусть напишет мне. И я напишу, пусть ответит».
А утром в Праге была первомайская демонстрация.
Весна пришла тогда в Европу загодя, солнце залило Вацлавскую площадь до краев, небо прозрачно, легкий ветерок раздувал знамена. Прага вышла на улицу вся, без остатка, маленьких пражан несли на руках солдаты, шедшие без оружия, с демонстрантами. Колонны шли бесконечно. Чехи шагали в добротных, выутюженных, праздничных костюмах, в мягких велюровых шляпах, в начищенных до зеркальности ботинках. Высокий гость, кажется из Кореи, спросил у соседа-чеха: «Когда же пойдут рабочие?» — «А это и есть рабочие», — ответил чех.
Пели «Катюшу» и, конечно, «Подмосковные вечера», только входившие во всеевропейскую моду. Произносили время от времени хором, в рифму лозунги и приветствия — такова милая традиция чешских массовых шествий.
Прошли, отбивая шаг, бойцы отрядов рабочей милиции, уже немолодые, в беретах, с нарукавными повязками, было среди них и немало женщин, ветеранов подполья, тех, кто в сорок восьмом тут же, на Вацлавской площади, решал судьбу Чехословакии.
Я разыскивал в колоннах, входивших на площадь, знакомых — «Дивадло 34» и обрадовался, наконец увидев бледное лицо Эмиля, его черные усики.
Буриан шел впереди, за ним шел театр «Д-34». На плече нес маленького Швейка, такого же голубоглазого, как небо над Вацлавской площадью.
Трудно было поверить, что это шагал вчерашний Буриан.
Отбивал шаг, точь-в-точь как прошедшие только что ветераны, солдаты революции, и, приметив на трибунах своих друзей, поднял высоко сжатый кулак, как поднимают сжатые кулаки, приветствуя друг друга, все антифашисты мира, и так же поднял сжатый кулак голубоглазый крепыш на его плечах, его продолжение, его будущее.
Шел впереди театра как живая его эмблема.
И это было художественно.
Таким я его и запомнил.
ПОСЛЕДНЕЕ ОТСТУПЛЕНИЕ — НЕЛИРИЧЕСКОЕ…
Кто-то тихонько трогает меня за рукав.
Австралиец.
Осведомляется, где шит мой пиджак.
В Москве.
Смотрю на вежливого и доброжелательного моего австралийца, на прильнувших к леерам любознательных его сограждан, оснащенных фундаментально — биноклями, бедекерами, картами — маршрутами по императорским резиденциям, отлично действующими желудками, завидным, терракотовым цветом лица, исправно дышащими легкими, бодрым расположением духа, холеной, массированной кожей. Прикидываю: а как бы Лавреневы и Вишневские, Зонины и Бурианы, Грищенки и Рассохацкие, юнги и летчики, политработники и корреспонденты, жены и вдовы, живые и погибшие, ошибавшиеся и побеждавшие, вернувшиеся и невернувшиеся, выплывавшие и тонувшие, все, кому на роду писано было жить и действовать в мятежные, непокойные, несчастные и счастливые годы, когда жило и действовало наше поколение, сменяли бы персонажи моей невыдуманной книги свои годы жизни на годы жизни ну хотя бы вот этих туристов с тихого материка в Тихом океане?
Ведь многие из этих сверстники тех, не так ли? В те же времена родились, жили. И на той же старой планете.
Дни этих, недели, месяцы, десятилетия катились ровно, по-накатанному, вчера, как нынче, нынче, как вчера, — и сотой доли не вынес каждый из этих того, что пало на плечи тех…
Жили по иному летосчислению, и календарь был иной.
Сменяли бы?
Нет, говорю с нерушимой уверенностью, не только за героев наших книг, романов, пьес, но и за их прототипы, за многих моих и ваших друзей, товарищей, и за тех, которые уже сами не могут сказать по обстоятельствам, от них не зависящим…
И за тех, кого поминал на этих страницах, и за тех, о ком скажу на следующих, и за многих-многих других, которых я знаю и вы знаете.
И, быть может, оттого, что пока проходит корабль вдоль берегов, взывающих к памяти, тревожащих ее, возникли «те» передо мною, вместе со всеми их непридуманными, а вернее, придуманными самой жизнью хитросплетениями, со всем жестоким драматизмом коллизий их человеческого существования — быть может, поэтому увиделись мне «эти» вежливые, сытые, воспитанные, благопристойные, с биноклями, у лееров — ирреальными, фантастическими жителями с некоей иной планеты, без нормальной земной биографии.
И, наверно, жить этим на этой планете удобно, но скучновато…
А тем идти было по незнаемому и жить, несмотря ни на что, захватывающе. И видеть случалось простым, невооруженным глазом то, чего не разглядишь даже в окуляры добротных австралийских биноклей, увеличивающих двенадцатикратно.
Другие берега, и дворцы другие, и острова обитаемые и необитаемые, и земли, сделавшие людей людьми, человечество человечеством…
«Михаил Калинин» снова дает гудок, зычный, дружеский, — приближаемся.
Что дало силы пережить, что пережили?
…Все идем и идем Морским каналом, в бесшумной воде; какой же он длиннющий, этот канал, впрочем, ходившим по нему в боевые операции кораблям блокады он казался еще протяженней: был под немецким артиллерийским контролем, неусыпным.
Длинный и узкий наш теплоход стиснули две зеленеющие насыпные полоски земли, не ровен час заденем их одним или другим белоснежным боком.
А мы ведь почти дома, тут и впрямь рукой достанешь до Исаакия, до Адмиралтейства, до золотой его иглы.
Та самая, которая светла. Вознесенная над Петербургом царем Петром. И запечатанная, зашитая в дощатый футляр в годы блокады. Та самая, выдавленная в бронзе — на медали, врученной защитникам Ленинграда, военным и штатским.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: