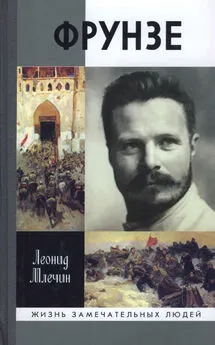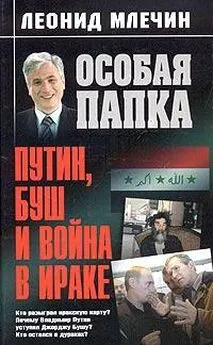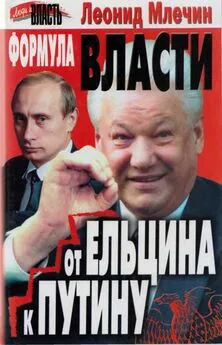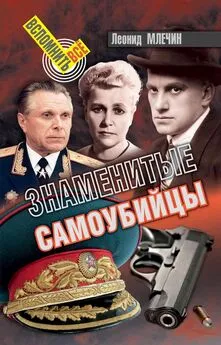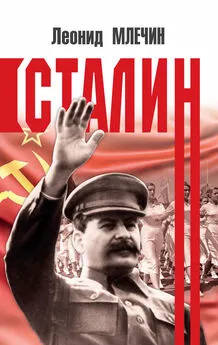Леонид Млечин - Фрунзе
- Название:Фрунзе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2014
- Город:М.
- ISBN:978-5-235-03712-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Млечин - Фрунзе краткое содержание
[Адаптировано для AlReader]
Фрунзе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Фрунзе нуждался в опытных штабистах. Попросил прислать ему бывшего генерала Федора Новицкого, к которому привык. Отправил в столицу телеграмму:
«Москва, Начальнику Оперативного управления Полевого штаба Республики, для т. Новицкого.
Предполагаю Ваше назначение на должность моего помощника. В случае Вашего согласия прошу немедленно выехать в Харьков. Желательно получить и захватить с собой легковой автомобиль и два мотоциклета HP 5855.
Командюж Фрунзе».
Однако Новицкого к нему не отпустили. Федор Федорович находился в Риге, где шли советско-польские переговоры. Михаилу Васильевичу помогли другие опытные военные. Подготовкой Перекопско-Чонгарской операции занимались и главком Сергей Каменев, и начальник Полевого штаба Павел Лебедев.
Фрунзе привез с собой группу генштабистов, с которыми служил на Восточном и Туркестанском фронтах (см.: Военноисторический журнал. 2013. № 10). Начальником штаба фронта стал бывший подполковник, выпускник Академии Генштаба Иван Христофорович Паук. Заместителем начальника штаба назначили бывшего полковника-генштабиста Александра Карловича Андерса, начальником Оперативного управления — бывшего штабс-капитана (и тоже генштабиста) Петра Петровича Каратыгина, которому Фрунзе за взятие Уфы вручил золотые часы. Снабжением фронта ведал бывший полковник Владимир Васильевич Фрейганг, за плечами которого была не только Академия Генштаба, но и Интендантская академия. И, напомним, 4-ю армию возглавил бывший подполковник-генштабист Лазаревич, 6-ю армию — бывший капитан-генштабист Корк.
«Таким образом вокруг Фрунзе, — резюмирует историк Андрей Владиславович Ганин, — сложилась мощная и во многом отлаженная прежней совместной службой группа высококвалифицированных генштабистов, обладавших опытом проведения крупных операций в условиях Гражданской войны. При таких обстоятельствах сам командующий фронтом мог не обладать какими-либо военными познаниями, поскольку проведение операции становилось делом техники, ранее отработанной коллективом».
НА ЧОНГАРЕ В 1920-м
У меня сохранились записки моего дедушки, Владимира Михайловича Млечина, который семнадцати лет, в 1918 году, пошел добровольцем в Красную армию, а на Южном фронте был комиссаром полевого отдела Управления военных сообщений 4-й армии. Он участвовал во взятии Крыма и описал запомнившийся ему эпизод с Фрунзе:
«Тогда юг Таврии и Крым соединяли длинный, с четверть версты, Чонгарский деревянный мост на сваях — по гужевому тракту — и унылый железнодорожный мост, который с юга упирался в узкую дамбу, длиною в километр или полтора, насыпанную по Сивашу. Когда поезд шел по дамбе, через окно казалось, будто он движется по воде, зеркально сверкавшей на солнце или свинцово-рябой в непогоду.
Отступая, врангелевцы сожгли деревянный мост и взорвали два пролета железобетонного. Сложнейшая система укреплений превращала этот — левый — фланг Крымского фронта в твердыню неприступную. Вдобавок в распоряжении советского командования во время операции было мало артиллерии, особенно тяжелой, разрушенный транспорт не справлялся с перевозками. Не было и надежных понтонных средств. А белогвардейцы оснастили укрепления мощной артиллерией вплоть до крепостных орудий из Севастополя.
Что на Перекопе, что на Чонгарском перешейке сложнейшие естественные рубежи обороны были многократно усилены фортификационными сооружениями, созданными под руководством французских инженеров. И рубежи эти охраняли лучшие полки белой армии, насыщенные офицерами, прошедшими школу трехлетней войны с немцами. И они дрались с ожесточением обреченных, с отчаянием смертников.
Казалось, и сама природа решила помочь белым: наступили необычные для этого времени морозы — до двенадцати, тринадцати, иногда до пятнадцати градусов, дули холодные злые ветры. Врангелевцы сидели в оборудованных блиндажах, были сыты и тепло одеты: «союзники» — французы, англичане — подкинули экипировки из бесполезных после окончания войны интендантских запасов; было вино, был спирт.
А наши красноармейцы? Даже сейчас, спустя столько лет после событий, сердце сжимается, когда вспоминаешь, как были одеты и обуты части 30-й Иркутской дивизии, увековечившие себя в Чонгарском сражении, или славные полки 51-й дивизии, обессмертившие себя штурмом Турецкого вала.
Под утро шестого ноября стал я пробираться к Чонгарскому полуострову. В полевом штабе 4-й армии сказали, что там я найду начальника 30-й дивизии Ивана Кенсориновича Грязнова. Хотелось уточнить: какие из грузов дивизии двигать в первую очередь. Конечно, всё можно было узнать в дивизионных штабах. Но какой девятнадцатилетний комиссар тех лет упустил бы случай и благовидный предлог, чтобы добраться до передовых позиций дивизии, которая вот-вот должна начать решительные действия против Врангеля.
По направлению к станции Чонгар двигались на парной повозке санитары с перевязочным материалом. Лошади бежали ходко, да мороз и ветер пробирался сквозь шинель и гимнастерку, стыли ноги. Мы по очереди слезали и бежали за повозкой.
Все вопросы вертелись вокруг одного: когда, наконец, начнется наступление, или, как выражались многие красноармейцы, «когда будем его кончать». В этой главной мысли сплелось многое и разное: понимание грозных бедствий новой зимней кампании, извечные заботы о запущенном хозяйстве, тоска по дому, по семье, заброшенным ребятишкам. Война до печенок обрыдла всем.
А затяжка войны теперь связывалась только с именем барона Врангеля, естественно, что вся ненависть сосредоточилась на нем. «Кончать его» означало ликвидировать последний очаг Гражданской войны, покончить с разором в стране, вернуться по домам.
Так начались дни и ночи, полные неповторимого напряжения, десять дней, за которые раздетая, разутая, почти без артиллерии армия, руководимая профессиональным революционером и бывшим каторжником, разгромила прекрасно вооруженную и оснащенную армию, оборонявшуюся в первоклассной крепости. Да, именно десять дней! В ночь с седьмого на восьмое ноября Иван Иванович Оленчук повел вброд через Сиваш на Литовский полуостров первую штурмовую группу, а семнадцатого была взята Ялта, последнее прибежище белой гвардии.
Наступила такая лихорадочная пора, когда теряется ощущение дня и ночи и собственное существование становится иллюзорным. Я носился между станциями — на паровозах, дрезинах, верхом, бегал от депо к эшелонам, от телеграфного аппарата к телефонному, докладывал, приказывал, спорил, просил, умолял, грозил…
Не помню, где и когда я ел в течение этих дней и ночей. Знаю твердо: не спал; во всяком случае не спал в своей теплушке; может быть, дремал у телеграфного аппарата Морзе, может быть, засыпал в седле или на дубовой железнодорожной скамье у начальника депо, пока готовили паровоз под сверхсрочный состав.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: