Борис Панкин - Четыре я Константина Симонова
- Название:Четыре я Константина Симонова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Панкин - Четыре я Константина Симонова краткое содержание
Четыре я Константина Симонова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Трудно утверждать, — продолжал фантазировать Симонов, — есть ли в романе Троцкий. Скорее всего нет. В ту пору, к которой относится действие в романе, тот уже сошел с открытой политической арены. Но повествование кишмя кишит его последышами и духовными детьми — эти латунские, степы лиходеевы, римские, сеплеяровы, алоизии могаровичи. Куда ни обрати свой взор, они всюду — в конторах, главках, киностудиях, домоуправлениях, партийных комитетах, театрах, проектных организациях. Они, быть может, даже и не подозревают о своем родстве с Троцким, но они — плоть от плоти, кровь от крови его, вызванное им к жизни племя — без глаз, без ушей, без обоняния, одни лишь рты да запах.
Если человек, тем более с таким могучим воображением, как у Булгакова, ненавидит что-то, он должен персонифицировать объект своей ненависти. Если он еще на что-то надеется, он ищет, с кем бы связать свою веру. Булгаков — и тут он был, увы, не единственный — связал ее, по крайней мере, на какое-то время со Сталиным. Трагический парадокс — или фарс? Получалось, что акции возмездия в отношении общих со Сталиным врагов совершались на фоне других событий, которые измученным воображением Мастера невольно воспринимались как знаки надежды. В сентябре 1935 года в армии были восстановлены чины. Дорогое Булгакову слово «офицер» вернулось в обиход, а такие слова, как, например, «капитан» или «полковник», слышались теперь не только со сцены, когда там шли «Дни Турбиных», но и в повседневном общении. Через год была «разрешена» милая его сердцу еще с детских киевских лет новогодняя елка, которая на протяжении семи предыдущих находилась, можно сказать, под арестом.
Это хорошо помнил и Симонов. Это все производило впечатление и на Костю, хотя чуждый, несмотря на свое дворянское происхождение, предрассудков прошлого, он больше ценил отмену карточек, чем появление новых офицерских чинов. Но общее ощущение подъема было — Бог ты мой! — папанинцы, челюскинцы, метро в Москве, Турксиб, Магнитогорск, республика в Испании, защищать которую Костя-Алеша рвался всей душой. А тут какие-то последыши, двурушники, троцкисты. Всякие Зиновьевы и Радеки тянут в прошлое, ставят подножку шагающему вперед гиганту.
Умел, умел «вождь всех народов» спекулировать на естественной и необоримой тяге людей к созиданию, гуманизму, просвещению:
Кто там шагает правой?
Левой! Левой! Левой!
Как тут не восславить, не обратить взоры к Сталину, который всегда впереди — и там, где стройка, и там, где схватка за воспетый в Интернационале «новый мир», не на жизнь, а на смерть... Смерть троцкистско-зиновьевско-бухаринским выродкам!!!
Теперешний Симонов не мог бы поручиться, что Костя ни разу не выкрикнул в какой-нибудь хорошо организованной толпе такой или подобной фразы. Быть может, даже и голосовал раз, другой за исключение из комсомола детей очередного разоблаченного врага народа. Нелепо было бы, конечно, предположить нечто подобное относительно Булгакова. И все же какое-то время — Елена Сергеевна тому живой и беспристрастный свидетель — и он был на стороне карающей длани. И у него рождали оторопь и неприятие стихи Мандельштама:
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны.
Тараканьи смеются усищи,
И сияют его голенища.
— Он же написал такое ужасное стихотворение, — с почти не остывшим негодованием восклицала Елена Сергеевна.
Ссылка за такое воспринималась чуть ли не как акт справедливости. А последовавшее затем временное смягчение участи Мандельштама — как акт гуманности, милосердия.
А вокруг его сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.
Сколько раз К.М. перечитывал это стихотворение с тех пор, как оно впервые попало ему в руки. И только сейчас пришло в голову — а не явилась ли вся линия Воланда и его свиты в романе своеобразным переосмыслением мандельштамовских строк? Даже спором с ними? Там, где поэт видел лишь злую прозу жизни, прозаику и драматургу виделось что-то сатанински-великое.
Нет, Сталин отнюдь не был в глазах Мастера этаким жрецом справедливости. Он был из того же племени, той же веры, что и его враги, но ему дано было возвыситься волей и духом над этой страшной стаей, которая все время пыталась уравнять его с собой. И он бился с тем самым злом, из которого вышел, в котором родился. Такие битвы бывают по-особому люты и непримиримы. В таких битвах не разбирают, куда ударить. Тут бывает просто невозможно отличить правого от виноватого, своего от чужого. Нет, Сталин не был в воображении Булгакова ангелом. Но не был им и Воланд. Он был сатаной. Сатана — это все же поэтичнее и возвышеннее, чем нетопырь или вурдалак. И свистящая, мяукающая, хнычащая свита его тоже не ангелы — полулюди, полубесы, полуживотные. И отнюдь не одни только добрые дела, если разобраться, творят они в лежащей у их ног Москве — все зависит от того, что прикажет Мессир. Отнюдь не ради помощи Мастеру и Маргарите они к нам прибыли, а просто провести в урочную пору ритуальный бал и найти для этого бала царицу, которая обязательно должна называться Маргаритой. Только познакомившись поближе с Мастером и его возлюбленной, они ненароком вступили на стезю справедливости, воздавая по заслугам и правым, и виноватым. Само это слово «Мастер» не из разговора ли Сталина с Пастернаком пришло, когда тот переспрашивал поэта по телефону об арестованном уже Мандельштаме: «Ведь он — мастер, мастер?»
В Булгакове, видно, жила, как и в каждом художнике, неизбывная вера в союз поэта и государя, заключаемый, как и счастливый брак, на небесах волею свыше. Вера, которой отдал дань Пушкин. А в наши дни, то есть в булгаковскую пору — и Пастернак, да и тот же Мандельштам, да, да, Мандельштам с его попыткой оды о Сталине.
Глядя на те времена сквозь свой счастливо обретенный «магический кристалл», К.М. все больше постигал теперь тот дьявольский механизм, с помощью которого можно было мистифицировать не только такого несмышленыша, каким был в свои двадцать три-двадцать четыре года Костя, но и такого мудреца, как Михаил Афанасьевич Булгаков.
О, эти сталинские звонки и письма! Сталин позвонил Пастернаку и спросил его, Мастер ли Мандельштам. Пастернак тут же рассказал окружающим об этом разговоре. Он был единственным источником информации, говоря по-нынешнему, и молва осудила не Сталина, который стер с лица земли поэта-дитя, а его, Пастернака, за им же процитированную собственную фразу, «что хотел бы говорить о другом». Пастернак и произнес-то ее единственно потому, что уверен был: с Мандельштамом теперь все в порядке, коль скоро сам Сталин звонит и спрашивает о нем. И тот постарался утвердить молву в этом: перевел Мандельштама из Чердыни в Воронеж, а затем даже отпустил его в Москву. Чтобы там неожиданно арестовать снова и уже навсегда.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
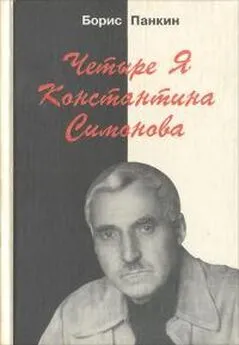


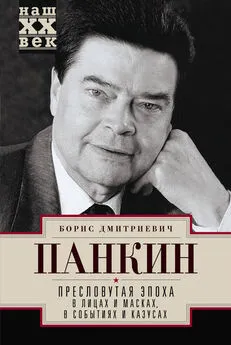
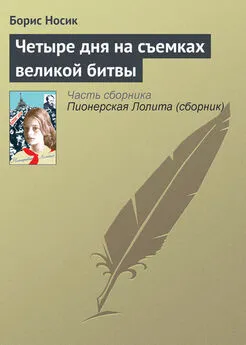
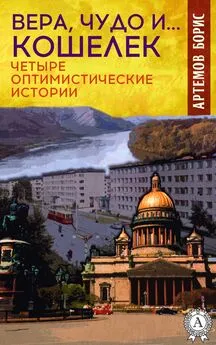
![Борис Орешкин - Четыре дня с Ильей Муромцем [повести]](/books/1098163/boris-oreshkin-chetyre-dnya-s-ilej-muromcem-povesti.webp)
