Борис Панкин - Четыре я Константина Симонова
- Название:Четыре я Константина Симонова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Панкин - Четыре я Константина Симонова краткое содержание
Четыре я Константина Симонова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Что это? — спросил он, взяв статуэтку в руки, и, услышав сердитый, как ему показалось, ответ Ларисы «не вертите», поспешно поставил вещицу на место.
Как ему было нехорошо потом, когда, догадавшись о своей ошибке, такой предательской, если верить Фрейду, он рылся в учебниках и энциклопедиях, чтобы узнать все о прекрасной египетской царице.
Всю жизнь читаешь, смотришь, познаешь и вот на тебе, то и дело обнаруживаешь такие белые пятна в своем образовании, что только диву приходится даваться.
Круг интересов и занятий Ларисы, который он сначала с любопытством, потом с неподдельным интересом, а там и с оттенком почтения стал постигать, неумолимо втягивал его в свою воронку. Знала она удивительно много, особенно, конечно, в своей сфере, в области изобразительных искусств. Писала, на его вкус, плохо, вяло, с массой не столь обязательных терминов и неуклюжих наукообразных оборотов. В Ташкенте, где она, как и он, часами сидела, согнувшись над машинкой в своем кабинете, ему приходилось, по существу, переписывать все, что она успевала «натюкать», как выражалась Нина Павловна. Поначалу она не хотела ему давать свои листочки. К замечаниям, весьма тактичным, относилась, пожалуй, даже с враждебностью. Ей казалось, что они продиктованы просто его незнанием предмета. Но так как он, прежде чем побеседовать с нею, старался прочитать, что было под рукой на соответствующую тему, постепенно стала относиться к его замечаниям внимательнее. А там и вообще поняла, что профессионализм литератора — такая же объективная реальность, как методика исследований для ученого. Благодаря своему ремеслу профессиональный литератор может грамотно и увлекательно написать практически на любую тему. Она училась у него литературному письму и была способной ученицей, а он все с большим рвением вникал в перипетии ранее безразличных ему пластических искусств.
Он не заметил, как и когда это случилось, что мир ее интересов стал неотъемлемой частью его существования. Предметы, люди, страсти этого мира. Явное и невидимое. Всевозможные рифы и подводные камни.
Оказалось, и в этом мире есть свой «гамбургский счет», тот самый, что ввел в обиход Виктор Шкловский, и на который он, Симонов, некогда издевательски обрушился.
Он недоумевал, видя, как пофыркивает пренебрежительно Лариса, когда разговор между ними заходил, например, о передвижниках. Для него-то было как дважды два, что они — вершина русского изобразительного искусства. Он, может быть, и затруднился бы перечислить с ходу, что они там написали, — Маковский, Поленов, Шишкин, Саврасов, Перов, но уже само звучание их имен отдавало для него чем-то классическим, непререкаемым. Для Ларисы все это отдавало обыкновенным «писанизмом». Словечно, которого он раньше не слышал. У нее был совсем другой отсчет. В прошлом для нее на Западе существовали одни импрессионисты, все эти Мане, Моне, Гогены, Ван Гоги... В русской живописи и скульптуре все начиналось с Врубеля и полузабытого Антокольского. Потом шли Бенуа, Лансере, Добужинский, Серебрякова, Гончарова и Ларионов, Кандинский и Малевич...
Он, конечно же, добросовестным образом перечитал то, что ему рекомендовала Лариса, и о Кандинском, и о «черном квадрате» Малевича, и о Фернане Леже, и о Шагале, и о Пикассо, которого он знал лично.
Когда в дом приходили друзья и единомышленники Ларисы, он старался не обременять их своим присутствием. Так он им и заявлял, вызывая этим бурные, но не очень настойчивые протесты. Присесть где-нибудь сбоку на десяток минут, повозиться с трубкой, отпустить пару-другую реплик в привычной полушутливой манере — и по своим делам. Коротких этих минут Ларисе и ее компании хватало однако, чтобы загрузить его массою просьб-поручений. Получалось, что в их мире бедолаг, непризнанных гениев, всякого рода неприкаянных бунтарей было еще больше, чем в досконально известном ему мире словесников. Он хлопотал и за живых, и за мертвых, писал в Моссовет и министерство культуры, в различные музеи, архивы, редакции газет. Многих из тех, за кого приходилось ходатайствовать, узнавал сначала по именам, по перипетиям их многострадальной, часто уже свершившейся жизни, а потом уж по их картинам, скульптурам и другим творениям. Так было с грузином Пиросмани, с москвичом Татлиным.
На выставку в Манеже в 1962 году, в подготовке которой активно участвовал весь Ларисин круг, он попал вместе с ней еще до официального открытия и, соответственно, до сенсационного появления там Хрущева.
Явился туда, имея в кармане заказ «Известий», где недавно выступил, первым в советской печати, с рецензией на «Один день Ивана Денисовича». Аджубея, который теперь попросил его рассказать о выставке, он по обычаю предупредил, что ничего в изобразительном искусстве, тем более авангардистском, не понимает. Аджубей в свойственной ему наступательно-эмоциональной манере заявил, что им, мол, и не нужен узкий специалист, который, как известно, подобен флюсу. Пусть они пишут себе в «Декоративное искусство» или еще куда-нибудь. Для «Известий» нужен именно такой вот якобы дилетант, знаменитый писатель, который мог бы схватить идеологию события, его политическую суть. Ведь все это десятилетиями лежало под спудом, запрещалось. Напор Алексея Ивановича был мощен и не лишен очарования.
Выставка ошеломила его. Всего было так много и все было настолько неожиданным, что без Ларисы он, пожалуй, просто потерялся бы в этой карусели картин, скульптур, чертежей, макетов, схем, каких-то диковинных, вообще ни на что не похожих предметов. Спокойные, лаконичные объяснения Ларисы, которая с удовольствием играла роль гида, в то время как он с таким же увлечением изображал из себя экскурсанта — так было надежнее, словно бы упорядочивали кипение форм и красок, придавали им стройность и гармонию.
Он так и решил назвать свои заметки «С позиции писателя». В каком-то смысле это будет продолжением его размышлений о повести Солженицына. Скажет о чувстве радости, которое нельзя не испытывать при виде всего того, что выставлено в Манеже, при осознании того, что стало возможным вытащить все это из запасников, а то и вовсе с чердаков и из чуланов, где, погибая, ждали своего часа эти неувядающие свидетельства могучих художественных потенций нашего народа... А потом скажет и о чувстве обиды и горечи по поводу того, что так много лет все это обреталось втуне, в то время как перед глазами маячило поверхностное, конфеточное, «правильное»... Скажет с искреннею болью человека, который как раз не был обойден вниманием в те годы, был много и порой даже незаслуженно хвалим, в результате чего возымел сильно преувеличенное представление о собственном месте в художественной жизни общества. К.М. полагал необходимым упомянуть об этом. Каждый раз, когда он так делал, наступало какое-то, пусть и кратковременное, облегчение душе. У него было ощущение, что этими признаниями он зарабатывает себе право говорить о своих сегодняшних представлениях о мире, о роли творческого деятеля без оглядки, без комплексов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
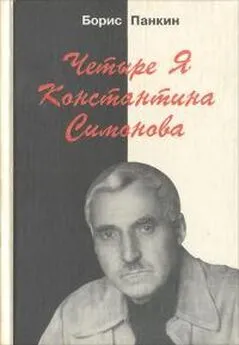


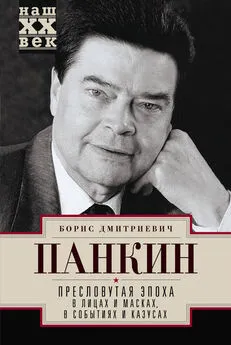
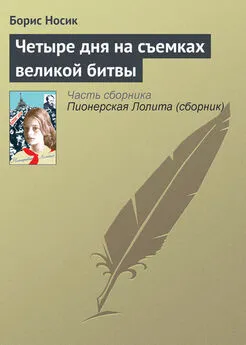
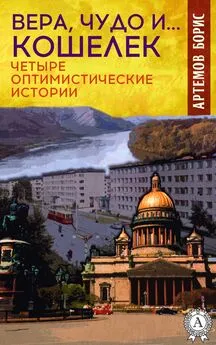
![Борис Орешкин - Четыре дня с Ильей Муромцем [повести]](/books/1098163/boris-oreshkin-chetyre-dnya-s-ilej-muromcem-povesti.webp)
