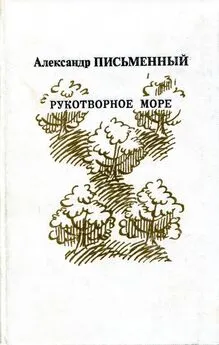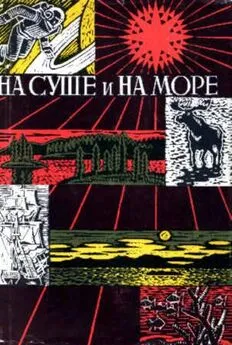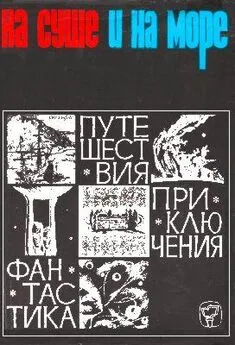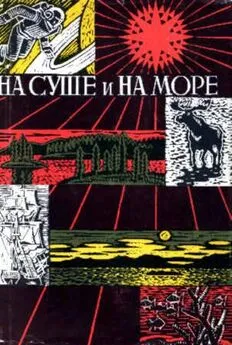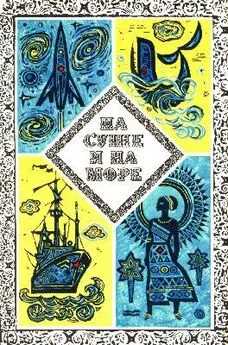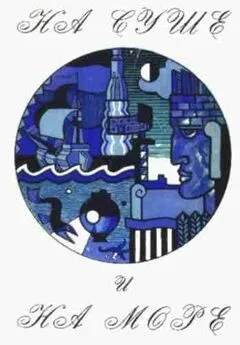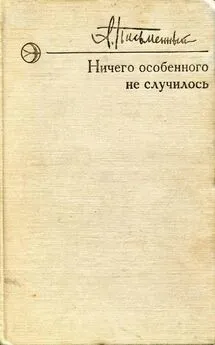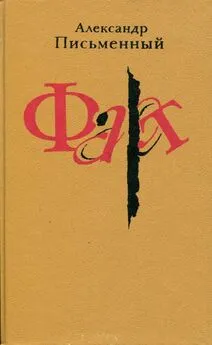Александр Письменный - Рукотворное море
- Название:Рукотворное море
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Письменный - Рукотворное море краткое содержание
Рукотворное море - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Широта, легкость и убедительность ассоциаций (с большой наглядностью это выступает в устной речи).
Способность интересно и убедительно осмыслить происходящее. Способность живо интересоваться действительностью, людьми.
Есть писатели, которые каждую работу начинают заново. Кончив «Детство» и «Отрочество», Толстой принимается за «Войну и мир», потом принимается за «Анну Каренину». У него есть этапы. Виктор Борисович Шкловский все время продолжает когда-то начатую книгу. Поэтому говорить о какой-нибудь его работе в отдельности невозможно, как нельзя говорить об отрывке.
Первые его книги интересны, это происходило потому, что их тема — интимное чувствование, мышление героя, автора находились в каком-то соответствии, в какой-то пропорции с дыханием внешнего мира, привлеченного в книгу. В этих книгах Шкловского было много лирики, поэтического, какое бывает в книгах умных людей о себе. В них Шкловский имел смелость ошибаться, читатель прощал ему субъективизм восприятия.
Все это имело прелесть игры, и этим было любезно читателю. Теперь он хотел бы идти в ногу с временем, писать о главном и занимать позиции, на которых его книги имели бы государственное значение.
Разговор о Пановой я делю на две части: 1 — собственно о романе и 2 — о столь обильной критике. Оба эти явления характерны. Появление романа «Кружилиха» свидетельствует о качественном росте литературы. Появление же литературно-критических статей говорит как раз об отставании этого рода литературы. О чем же писала Панова? Писала о живой, реальной действительности. Она изображала жизнь во всей ее сложности, в ее противоречиях, и если социалистический реализм должен включать в себя диалектическое познание действительности, то такой и предстает она в романе Пановой.
Меня не удовлетворили «Спутники», потому что диалектическое понимание в них было нарушено. В этом романе судьбы людей также даны были в их неприкрашенной сложности, но конечное впечатление портили искусственные, нарочито-оптимистические проекции этих судеб.
В «Кружилихе» этот недостаток полностью преодолен. Все естественное всегда убедительней искусственного. В «Кружилихе» эта истина торжествует. Я думаю, что «Кружилиха» — значительный шаг вперед по сравнению со «Спутниками».
Я не хочу сказать, что все в романе меня безоговорочно удовлетворяет. Мне не очень понравилось то, как изображено детство Нонны, то, как разговаривает Мартынов. Мне кажется, что ремесленники, попавшие в деревню, чем-то напоминают гимназистов.
Эти мелкие недостатки искупаются широким, полнокровным изображением жизни. И в этом заслуга автора. От самых малых деталей, например, как читают ремесленники «Графа Монте-Кристо», до глубоких драматических конфликтов — все превосходно в этой книге.
В конфликте Уздечкина и Листопада читатель не ищет прямого ответа, кто прав, кто виноват. Эти оба героя по-своему положительны, но они разны по характерам, по судьбам, и поэтому происходит между ними конфликт — так именно в жизни и бывает.
Можно ли упрекнуть Панову в объективизме? Объективизмом мы называем отношение, при котором одинаково автор относится к дружественному и враждебному, плохому и хорошему. Но в своем романе Панова не показывает нам враждебных, плохих людей. Их судьбы различны — здесь и Листопад, полностью сформированный Советской властью, здесь и Мартынов, бывший кулак. Здесь и главный конструктор, старый инженер, ставший патриотом, здесь и ловчила Мазаев, отлично сражавшийся за Родину. Да, да, он ловчила, пошляк, но он скроен совсем из другого материала. А раз так, то не объективизмом нужно называть отношение Пановой к своим героям, а справедливым, если хотите. А это далеко не одно и то же. С такой же точки зрения на мир, на людей смотрит и Панова.
В этой связи и следует говорить о критических статьях, появившихся в таком изобилии в «Литературной газете». Уже одно то, что за какую-нибудь неделю их четыре, говорит о том, что критики пытаются разобраться в романе.
А я беру на себя смелость утверждать, что это роман, в котором нет отрицательных героев, и в этом его дополнительное достоинство. Панова критически изображает своих героев, но это как раз и соответствует требованиям наших дней. Потому Панова и любит своих героев, да, любит, вопреки голословному утверждению одного из критиков, потому она и называет их «люди добрые» — в этом названии нет иронии.
Мертвые остаются молодыми, когда они погибают безвременно, — это печальное соображение как нельзя больше подходит к Михаилу Лоскутову.
Вероятно, у каждого бывал случай подумать о ком-нибудь: а как он будет выглядеть на старости лет? Чаще всего задача оказывалась не сложной и не приходилось напрягать воображение. Представить себе М. Лоскутова 60-летним я не могу.
Когда я стараюсь восстановить, каким он остался в моей памяти, на ум приходит мысль, что это был колючий человек. Во все стороны всегда торчали его иглы, но при этом они не представляются мне сейчас ни средством защиты, ни орудием нападения. Колючесть была его обликом, как мне кажется сейчас, точно так же, как у другого — насмешливость, мрачность или дурашливость. Колючим кажется сейчас мне М. Лоскутов, потому что он не терпел глупости, бездарности, подлости, чванства. А в душе он был полон человеческой теплоты, доброй отзывчивости, и лучшее тому свидетельство для тех, кто его не знал, — рассказы Лоскутова для детей. С ними, с детьми, он умел говорить как с равными, при этом он не прикидывался их ровесником, не панибратствовал с ними, оставался взрослым и мудрым воспитателем.
Да, сейчас, когда я вспоминаю, каким был М. Лоскутов, я отчетливо представляю себе, как ненавидел он всяческую нечисть, неправедность, измывательство над человеком. В этом отношении он был непримирим и, зная жизнь как должен знать ее умный писатель, всегда был настороже. Конечно, отсюда и возникало впечатление и сохранилось спустя эти долгие годы, что он — колючий.
Я помню вечер в журнале «Пионер», где М. Лоскутов рассказывал о себе и о своей работе. Был ли это экспромт, или выступление было заранее подготовлено — безразлично. Оно было примечательно не только блистательностью формы, но и точностью взгляда на окружающее и на самого себя. Чуть-чуть насмешливое отношение к самому себе, вся прелесть и горечь иронического самопознания в полной мере под силу человеку не только умному и талантливому, но и лишенному всякого зазнайства и в то же время знающему сполна цену себе.
Мы порой сетуем на равнодушие и инертность, имеющие тенденцию к распространению. Но, в конце концов, и неравнодушие встречается не так уж редко. Сказать о Михаиле Лоскутове, что он был неравнодушным, было бы недостаточно. Он был человеком страстным, увлекающимся, неистовым. Больше того, я бы сказал о нем, что он попросту был азартен. Азартен во всем. В работе, в жизни, в привязанностях. Если он дружил, так за друга был готов, как говорится, и в огонь, и в воду. До сих пор вспоминаются его литературные симпатии или антипатии, святой ригоризм к слову, уровень его нравственных требований. Он даже в шахматы играл со страстью картежника, точно хотел не партию выиграть, а сорвать крупный банк. Ему дорог был накал азарта. Ему важен был момент риска. К нему никак не применимо было бы слово «забияка», для него оно не подходило просто по масштабу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: