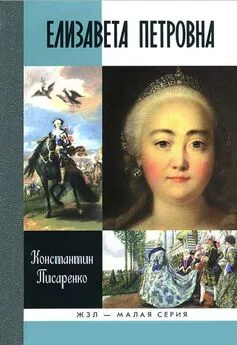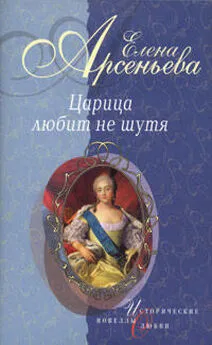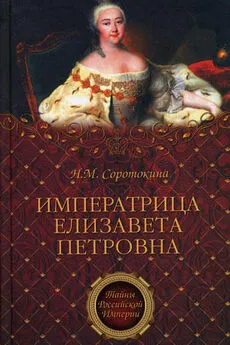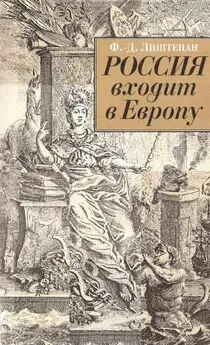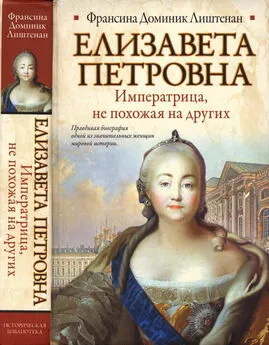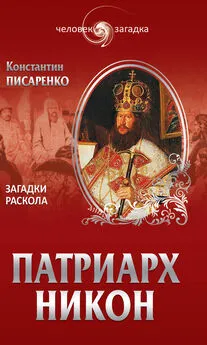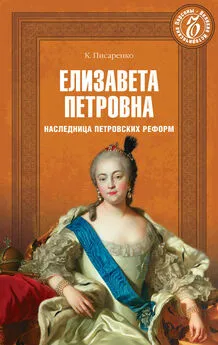Константин Писаренко - Елизавета Петровна
- Название:Елизавета Петровна
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2014
- Город:М.:
- ISBN:978-5-235-03682-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Писаренко - Елизавета Петровна краткое содержание
Книга историка Константина Писаренко, кое в чем спорная, местами провокационная, поднимает много вопросов о царствовании и личной жизни дочери Петра Великого и дает на некоторые из них неожиданные ответы.
[Адаптировано для AlReader]
Елизавета Петровна - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Всего лишь раз, в феврале 1758 года, императрица отпустила от себя «дочку» в самостоятельный вояж в Ростов Великий, поклониться новообретенным мощам святителя Димитрия Ростовского. Даже замуж за корнета Конной гвардии Сергея Николаевича Строганова Прасковья Бутакова вышла 11 ноября 1761 года после неоднократного в течение года откладывания «матушкой» свадьбы. Оба брата фрейлины до 1757 года были пажами, потом камер-пажами. В августе 1758 года младший, Алексей, умер. Петр в декабре 1760-го выпросился у государыни в Конную гвардию поручиком. Не он ли сосватал сестру за барона Строганова?
Конечно, помимо Бутаковых, Елизавета Петровна заботилась о племянниках Разумовского, младенце Павле Петровиче, других детях. И всё же этих троих любила по-особому, действительно как родных. Недаром фрейлины, наблюдавшие за отношением царицы к Прасковье Григорьевне, нисколько не сомневались в том, что та — царских кровей. Вряд ли это так, учитывая обстоятельства появления младших Бутаковых в царском дворце {133} 133 См.: РГАДА. Ф. 16. On. 1. Д. 5. Ч. 4/3. Л. 195–196; Ф. 248. Оп. 1/8. Д. 442. Л. 739–741, 799, 799 об.; Васильчиков А. А. Указ. соч. Т. 1. С. 19, 20; Писаренко К. А. Елизавета Петровна. С. 10–12, 436, 442–444.
.
Между тем в научной и популярной литературе в чести версия о рождении у Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского дочери Августы, которую позднее вывезли за границу, а Екатерина II выманила на родину и поместила в московский Ивановский монастырь под именем Досифея. Однако утверждения, что инокиня Досифея (?—1810) и принцесса Августа — одно и то же лицо, до сих пор не подкреплены никакими документами и основываются исключительно на легенде, возникшей в XIX веке.
Глава девятнадцатая
«НОВАЯ СЕРБИЯ»
Весной 1751 года в Вене произошло событие, едва не выдвинувшее Пруссию в лидеры Европы с утратой этого статуса Россией. В середине мая с российским послом в Австрии М. П. Бестужевым-Рюминым скрытно встретился «полковник, весьма искусной офицер, имянем Иван Хорват от Куртич». Он сообщил дипломату, что «имеет крайнее желание по единоверию и всегдашней усердности не токмо быть в службе, но и вечно остатца в подданстве» у «самой истинной благочестивейшей государыни», добавив, что того же хотят и многие его соплеменники — сербы, с полвека назад оказавшиеся под скипетром Священной Римской империи, а теперь из-за гонений за веру искавшие иное пристанище. Естественно, взоры православного народа обратились на Россию. Полковник попросил «около Батурина или где инде на Украине… отвести выгодные места, куды б они… чрез Токай фамилиями выходить и… селиться могли», и заверил, что за собственный счет сформирует целый гусарский полк в тысячу сабель с полной экипировкой, а за российский — пехотный полк иррегулярных пандуров в две тысячи штыков. За это он надеялся получить чин генерал-майора с правом пожизненного шефства над гусарским полком и передачи командования по наследству.
Разумеется, старший брат российского канцлера отреагировал на визит Хорвата предсказуемо — энергично поддержал миграционные планы «искусного офицера» и не замедлил в реляции от 22 мая проинформировать о них императрицу, напомнив, во-первых, о «попечениях» Петра Великого о приглашении «тех… народов… во свое подданство, в разсуждении их особливой храбрости, благочестия, сходства и природной нелицемерной преданности к российской нации»; во-вторых, «что они во время войны с турками полезнее других быть могут». Действительно, переезжать в Россию собирались не просто сербские обыватели, а «граничары», охраняющие австрийские рубежи от османских набегов, препятствующие проникновению «прилипчивых» болезней и контрабандных товаров и ведущие соответствующий образ жизни, то есть представлявшие собой подобие малороссийского, донского и яицкого казачества.
В Санкт-Петербург сенсационная новость пришла недели через три, взбудоражив и воодушевив столичную общественность. С огромным энтузиазмом на нее откликнулись сенаторы, и в Иностранной коллегии тоже обрадовались. Похоже, только Елизавету Петровну депеша Бестужева не на шутку встревожила. Царица, в отличие от общественности, сразу поняла, чем чревата для империи инициатива Хорвата. Кстати, канцлер разглядел только одну опасность — охлаждение австро-русских отношений, вторую же — угрозу военного конфликта с Турцией — никто, кроме государыни, не увидел. Поэтому ее ближайшее окружение было недовольно высочайшей волей, выраженной 13 июня 1751 года: переселение не запрещать, удовлетворив чаяния граничар по минимуму, и настоятельно рекомендовать им обосноваться не на Украине, а «в других некоторых местах нашей империи, которые для житья человеческаго не меньше выгодны», — в Поволжье или Оренбургской губернии. Сановники-панслависты добились сочинения и поднесения императрице альтернативного проекта рескрипта Бестужеву-старшему, «в котором наставления пространнее и кондиции для помянутых сербов решительнее написаны».
Однако монархиня не передумала. 9 июля в присутствии Алексея Бестужева и Михаила Воронцова она внимательно прочитала оба варианта, первоначальный текст одобрила, откорректированный отклонила, пояснив: «…о кондициях пространно написано». По обыкновению завизировала документ не сразу, а спустя два дня. Коллежское руководство контрассигновало рескрипт 13 июля, после чего курьер помчался с ним в Австрию. Правота царицы по первому пункту очевидна: никому не понравится существенное ослабление пограничных застав путем массового вывоза лучших воинов в соседнюю державу — неважно, враждебную или союзную, а потому подстегивать эмиграционный процесс обещаниями дополнительных льгот и привилегий крайне опрометчиво.
Не случайно в указе появился пассаж о «других некоторых местах» для расселения иммигрантов помимо Украины. Граничары привыкли в Австрии стеречь рубежи от османов и татар и в России, конечно, предпочтут защищать границу от них же. Между тем размещать сербов придется не в Батурине, где издавна обосновались украинцы, а в двух отвоеванных при Анне Иоанновне демилитаризованных зонах — на правом берегу Днепра южнее Киева или на левом берегу севернее Азова, в практически открытой степи. Новопоселенцам придется обживаться под постоянным риском татарского нападения, и они поневоле потребуют от властей поставить заслон на направлении возможной атаки. А строительство крепости возмутит Стамбул, и турки не успокоятся, пока форпост не будет срыт. Отказ может спровоцировать войну… к великой радости Фридриха II.
Во избежание сих мрачных перспектив императрица и предложила внушать сербам, что служить за Волгой или на Яике ничем не хуже, чем на Украине. Но они, увы, не поверили. Первая партия грани-чар — 218 человек во главе с самим Иваном Хорватом — добралась до Киева 10 октября 1751 года. Учитывая, что офицеры выезжали из Австрии с семьями, говорить о скором появлении в русской армии нового гусарского полка не приходилось. Отток православных военных специалистов из владений Марии Терезии на восток пробуксовывал с первых дней кампании, а по прошествии полутора лет и вовсе застопорился из-за сопротивления официальной Вены. К тому же Хорват преувеличивал степень сербского недовольства политикой Габсбургов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: