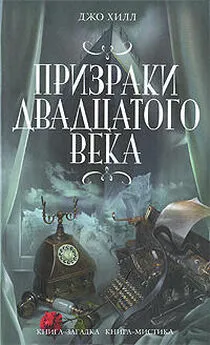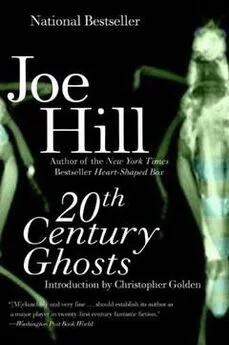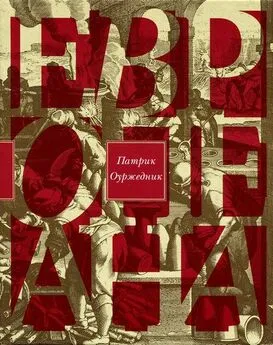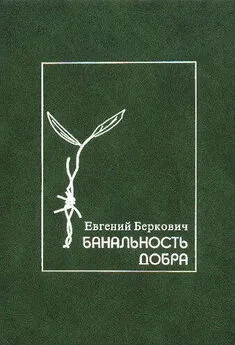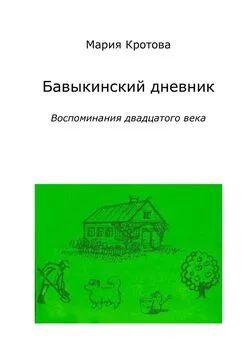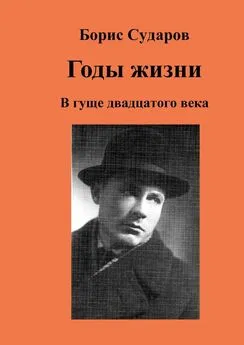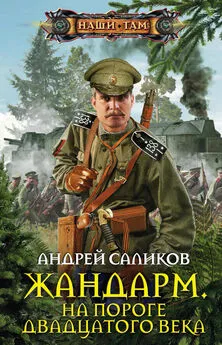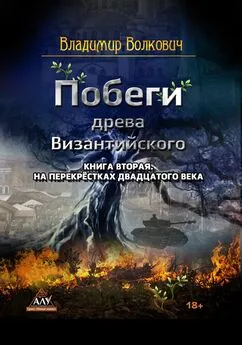Игорь Ефимов - Пять фараонов двадцатого века
- Название:Пять фараонов двадцатого века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Журнал Семь искусств
- Год:2019
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Ефимов - Пять фараонов двадцатого века краткое содержание
Пять фараонов двадцатого века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В Средние века европейские путушественники, сталкиваясь с коренными жителями Америки, Африки, Австралии, не раз изумлялись заботливости и бескорыстной взаимопомощи, оказываемой людьми друг другу внутри одного племени. У охотников и кочевников традиции гостеприимства служили, видимо, своего рода страхованием от несчастных случаев, от наводнений и пожаров, от падежа скота. Невозможной казалась ситуация, когда один будет умирать от голода, а у соплеменника будет полно припасов.
Чарлз Дарвин в «Путешествии на Бигле» описывает недоразумения, которые случались у белых при встречах с туземцами Южной Америки. Получив подарки от путешественников, те начинали указывать на разные предметы их одежды и произносить одно и то же слово, явно имевшее у них магический смысл: «вжых, вжых». Вскоре стало ясно, что слово означало «отдай». Когда путешественники отказывались расстаться со шляпой, галстуком, трубкой, очками, туземцы выражали изумление, возмущение, даже гнев. Один вдруг исчез и вернулся с камнем в руках, явно намереваясь проучить заезжих невеж.
Считать что-то своим явно считалось у первобытных народов недостойным. Подобные традиции сохранились у кочевых племён в России до советских времён. Туристов, посещавших Казахстан, Киргизию, Калмыкию, предупреждали, что в юртах нельзя похвалить какую-нибудь вещь — её немедленно начнут вручать вам и обижаться на отказ принять. Заветные слова «джаксы-джаксы» мгновенно приводили к переходу предмета от одного соплеменника к другому.
С переходом к осёдлому земледелию старинные обычаи не исчезали, а продолжали существовать внутри сельских общин, которые оставались хранителями моральных правил для многих поколений. Право индивидуальной собственности не только не было священным, но по возможности отрицалось, приоритет отдавался защите принципа равенства. Участки земли ежегодно подвергались передаче из рук в руки, чтобы ни у кого не было возможности пожаловаться на плохое качество доставшегося ему поля.
Уже в античности мы находим государства, многими чертами напоминающие воплощение идей Маркса-Ленина. Самым ярким примером является Спарта. Торговля и финансовая деятельность отменены, литература и искусства задавлены, выезд за границу запрещён, всё покрыто такой секретностью, что ближайшие соседи порой не знают, как и кем управляется страна. Афиняне и спартиаты говорили на одном языке, но их отношения были похожи на отношения между южными и северными корейцами сегодня. Холодная война между двумя государствами не раз переходила в горячую, и Спарта в конце концов оказалась победительницей.
Многие афинские интеллектуалы превозносили равенство, достигнутое спартанцами, с таким же жаром, с каким сегодня марксисты в свободном мире превозносят «достижения стран социализма». Знаменитый историк Плутарх не уставал восхвалять реформатора Спарты, законодателя Ликурга. Тот застал государство, в котором «толпы неимущих и нуждающихся обременяли город, все богатства перешли в руки немногих…» Ликург уговорил сограждан разделить всю землю поровну, чем «изгнал наглость, зависть, злобу, роскошь…». [334] Плутарх. «Сравнительные жизнеописания» (Москва: 1961), т. 1, стр. 59.
Христос учил, что «обольщение богатством заглушает Слово, и оно бывает бесплодным». (Матф., 13:22) Множество людей в христианских странах тяготились бременем собственности, осуждали её, пытались «раздать имение своё». Они ощущали владение землёй и имуществом как грех и искали спасения от этого греха, уходя в монастырь. Или устраивали комунны, в которых общим был труд на земле и в мастерских, общие жилища, общие трапезы. В современном Израиле хозяйства кибуцев устроены по тем же принципам.
Мы не можем не верить Толстому, который описывает моральные мучения, испытанные им из-за привилегий барского статуса. Когда его жена покупала новое кресло для дома за какие-нибудь 30 рублей, он немедленно начинал высчитывать, сколько дней бедная крестьянская семья могла бы прожить на эту сумму, и приходил в ужас от творимой ими «несправедливости». Если двое в одной семье не могли придти к согласию о том, что справедливо и что нет, как можно ждать единодушия по этому важнейшему вопросу среди миллионов?
Тем не менее развитие цивилизации производило свой отбор. Её прогресс оказывался возможным только у тех народов, которые делали выбор охранять личную собственность граждан. Да, это неизбежно создавало имущественное неравенство и, следовательно, раздоры. Но только таким образом оказывалось возможно извлечь выгоду из врождённого неравенства людей. Только так прозорливый получал возможность контролировать производственные процессы и большие хозяйственные проекты с максимальной эффективностью и способствовать общему процветанию страны.
В реальной исторической жизни институт собственности сделался главным инструментом охраны прав дальнозоркого, дававшим ему стимул прилагать максимальные усилия для приумножения своего — а значит и всеобщего — благосостояния. Правители охраняли собственника от зависти и ревности близорукого большинства, и для этого необязательно было вводить новые законы. Параллельно с рыночным регулированием действовали невидимые, но необычайно важные моральные рычаги. Их убедительно описал Адам Смит в своей книге «Богатство народов».
Он внимательно вгляделся в отношения между британскими землевладельцами и их арендаторами. Труд фермера не сводился к пахоте, посеву и уборке урожая. Любое улучшение участка требовало долгосрочных вложений труда и денег, которые лишь в будущем могли принести доход. Осушить заболоченный луг, проложить удобную дорогу, удобрить оскудевшую почву, построить амбар или скотный двор — всё это оказывалось возможным лишь в том случае, если трудолюбивый арендатор был уверен, что хозяин земли не прогонит его, чтобы воспользоваться удорожанием земли. Знаменитый экономист вводит здесь совершенно ненаучное понятие: «чувство чести помещика». Именно оно, по его мнению, не позволяло сквайрам злоупотреблять своими правами и способствовало расцвету сельского хозяйства в Англии. [335] Smith, Adam. An Inquiry into the Nature and Cause of Wealth of the Nations (Homewood, IL: R. D. Irwin, 1963), v. 1, p. 302.
Вглядываясь в ход мировой истории, мы получим множество подтверждений простому правилу:
Там, где государственный уклад охранял дальнозорких и энергичных от произвола и зависти близоруких, страна начинала богатеть и процветать, но при этом в ней неизбежно вскипали внутренние раздоры. Отмена или ограничение права собственности приглушала раздоры, но платить за это приходилось катастрофическим обеднением.
Переносясь из далекого прошлого в век 20-ый, мы имеем право задать вопрос: «Как сложилась судьба дальнозорких в странах, где воцарились наши фараоны? Ведь Муссолини и Гитлер не покушались на институт частной собственности. Почему же и под их властью судьба дальнозорких сделалась такой тяжёлой, что они начали массами покидать свои страны?».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: