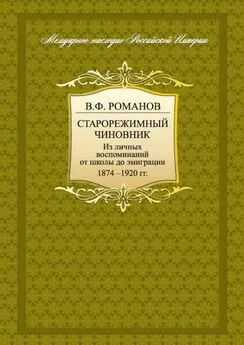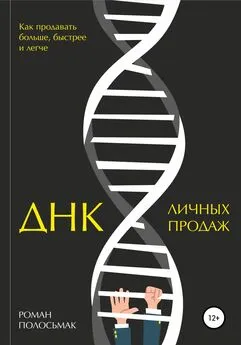Владимир Романов - Старорежимный чиновник. Из личных воспоминаний от школы до эмиграции. 1874-1920 гг.
- Название:Старорежимный чиновник. Из личных воспоминаний от школы до эмиграции. 1874-1920 гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Нестор-История
- Год:2012
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978–5-90598–779-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Романов - Старорежимный чиновник. Из личных воспоминаний от школы до эмиграции. 1874-1920 гг. краткое содержание
Для всех интересующихся отечественной историей.
Старорежимный чиновник. Из личных воспоминаний от школы до эмиграции. 1874-1920 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
У меня и моих товарищей было ощущение радости, что в России новый Царь, к котором определенно тогда говорили, как о стороннике либеральных реформ, конституции. Но печаль масс и траурный вид города как-то нарушали эту радость; начинались сомнения, которым, под влиянием последующих событий в моей жизни, суждено было через несколько лет перебросить меня в другой противоположный лагерь, сторонников самодержавия, которые, независимо от той или иной их политической программы, получили, кажется в 1905 году огульное название черносотенцев.
Осеннее торжество Петербурга — бракосочетание молодого Императора, менее, с эстетической стороны, захватывало, чем печальный день похорон его отца. Я был на Невском, по обеим сторонам которого стояли толпы народа. Царь с молодой женой медленно ехал в раззолоченной карете (он, очевидно, и тогда не любил ничего деланного); одной рукой он все время как-то машинально покручивал усы. Изумило меня также, что вдовствующая Императрица Мария Федоровна, следовавшая отдельно тоже в золотой карете, приветствовалась с гораздо большим энтузиазмом, чем молодая чета; к карете бросилась толпа людей, в том числе много студентов, они бежали за ней и кричали «ура»; Царица ласково раскланивалась. У Аничкова дворца, куда проследовал Царь с супругой, начал скопляться весь народ, стоявший по пути его следования; я был общим течением увлечен туда же; полиция, боясь, вероятно, чтобы не было случаев падения в Фонтанку, загородила дальнейший выход от дворца; между тем, не знавшие об этом заграждении, пробирались со всего Невского ко Дворцу; становилось все теснее; за пением гимна и разных русских песен, почему-то, между прочим, и «Дубинушки», крики к подходящим: «повернуть назад», заглушались; дышать было все тяжелее и тяжелее; я чувствовал, как сжимается грудная клетка; видел рядом с собой совершенно бледное лицо В. Ковалевского; видел невероятно растерянное лицо Н. Катеринича; он, типичный полтавский помещик, любитель покоя и тишины, с первых дней возненавидел шумную столицу с ее, необычным для провинции, уличным движением, даже крик кучеров «поди» он принимал, как нечто лично оскорбительное; переходя Невский, он обычно зажмуривал глаза и кидался стремглав в гущу экипажей и пешеходов, как пловец в бурную реку; понятно, что беспорядок, давка, пение, крики и стоны перед Дворцом, привели его в состояние полной растерянности и негодования; я думаю, что это торжество, главным образом, повлияло на его решение вернуться в любимый, в то время очень тихий, Киев. Я выбрался из толпы, постепенно проталкиваясь кверху, по головам ее, и с тех пор получил навсегда отвращение к уличным сборищам; Катеринин или Ковалевский прибегли к моему способу, а другому удалось влезть на фонарь возле дворца, где он заседал до восстановления порядка, когда полиция, наконец, открыла пропуск через Аничков мост на Фонтанке.
Сильное впечатление произвели на меня также похороны А. Г. Рубинштейна; я никогда не мог себе простить, что по приезде в Петербург не пошел на объявленный им концерт; думал, что их будет еще много, успею. И вдруг известие о смерти великого пианиста. Печальная процессия прибыла в Александро-Невскую Лавру, в сопровождении массы народа, только к вечеру. Один архимандрит в полумраке оступился, сходя с высокой могилы, и упал на меня. Затем осталось у могилы только светское общество, и вот откуда-то, в сумерках кладбища, раздалась красивая декламация: «он слышит райские напевы, небесный свет теперь ласкает бесплотный взор его очей».
С первых же дней приезда в Петербург началось хождение мое с бабушкой по музеям, главным образом в Эрмитаж, в ботанический сад и т. п.; бабушка неутомимо сопровождала меня и тетку и давала нам разные объяснения; это было продолжением моего художественного образования, и стало пусто и грустно, когда остался один, а мой старый друг и учитель жизни, с которым я почти никогда до того времени не разлучался, уехала к себе в Китаев, после чего до самой смерти в 1910 году я встречался с нею уже только на каникулах, да при сравнительно редких ее приездах в Петербург на месяц-два; писали мы друг другу еженедельно всю жизнь, часто по-французски для практики в языке.
Петербургский Университет прежде всего удивлял, по сравнению с Киевским, несмотря на более внушительный внешний вид последнего, своею, так сказать, подтянутостью, чистотой не только аудиторий и коридора, тянущегося бесконечно во всю длину Университета — здания бывших Петровских коллегий, но и самих студентов; в отличие от провинциалов, они, большинство, по крайней мере, носили не синие воротники на сюртуках, а темные, иногда почти черные, были более корректны и вообще лучше воспитаны, не плевали, например, на пол, как это практиковалось в грязных коридорах Киевского Университета, в массе говорили на чисто русском языке, здесь не было слышно ни еврейского гортанного говора, ни киевского хохлацко-польского волапюка; здесь уже нельзя было бы Колоколову, который тоже почему-то решил временно сделаться столичным жителем, дразнить «куллег», как говорил он, подражая Киевскому говору, прося их передать «хурчыцю» и т. п.
Аудитории Восточного Факультета помещались в верхней изолированной, какой-то получердачной, пристройке Университета; восточников, особенно на китайско-монгольском отделе, который избрали мы с Катериничем, было очень мало; большинство предпочитало турецко-монгольскую группу. Катериничем овладели сомнения еще до приступа к занятиям; «ведь, знаете ли, дядя, пожалуй, что эта китайская наука здорово трудна будет; ведь подумайте-ка простое слово че-су-ча, а черт его знает, что это может значить», говорил он мне озабоченно, идя в Университет. В вестибюле восточного факультета, на несчастье, а может быть счастье К., было выставлено объявление с темами письменных испытаний для третьего курса китайской группы; требовалось перевести или разобрать критически какое-то сочинение, название которого было чрезвычайно многосложно: «фи-фу-ци-дзы-во» и т. д. читал медленно Катеринич, выражая на лице своем постепенно неподдельный ужас. Перед входом в аудиторию, он с печальной улыбкой проговорил мне только: «Да, попали мы с вами, дядя, в хорошую историйку». Лекция была, кажется, японца Иосибуми-Куроно; я записывал что-то и не заметил, как Катеринич вышел из аудитории до конца лекции. В этот день на других лекциях я больше его не видел, а придя домой, от тетки узнал, что у не был К. веселый, бодрый, так как уже зачислен на первый курс юридического факультета: «помилуйте, говорил он тетке, ведь с этим фу-дзы-пу и т. п., приедешь в Китай и хлеба не сумеешь попросить». И хорошо сделал этот, безумно любивший свою родную Полтавщину, человек, что не оторвался от нее и на родине сделался любимейшим мировым судьей, не столько судя, сколько утешая своих клиентов в различных их личных горестях; любители поговорить и пожаловаться хохлы и евреи, изливали свои души ему, а чтобы он делал будучи оторван от родной обстановки?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: