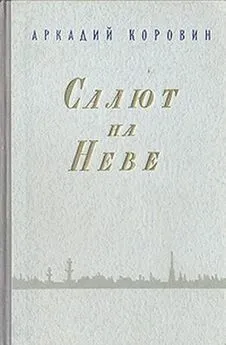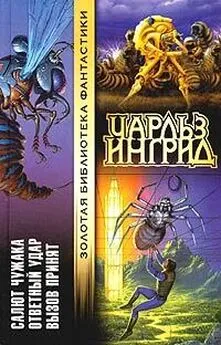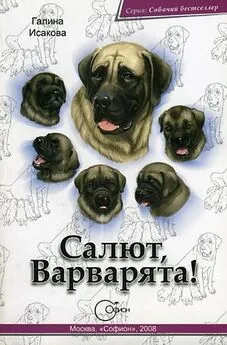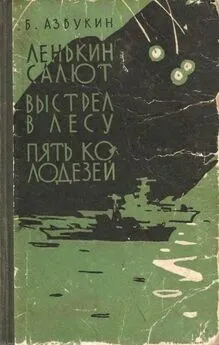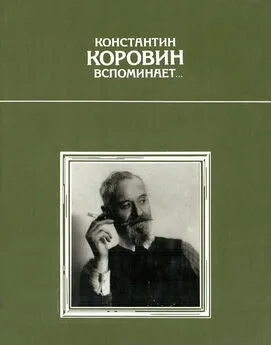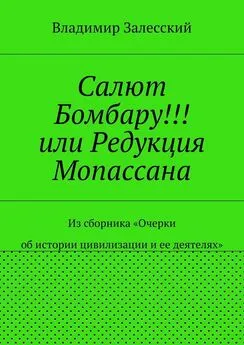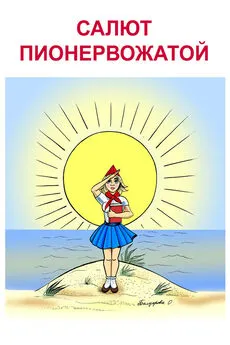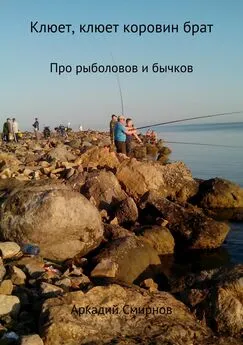Аркадий Коровин - Салют на Неве
- Название:Салют на Неве
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1950
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Аркадий Коровин - Салют на Неве краткое содержание
В электронной публикации сохранено правописание, соответствующее изданию 1950 г.
Салют на Неве - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Миша, — говорила она нараспев (она всех больных называла по имени), — покушай, дорогой! Что это ты такой скучный сегодня?
Дора не отходила от раненого до тех пор, пока тот не съедал через силу безвкусную стряпню госпитального камбуза. Дора обладала широкой, иногда бесшабашной, но бесконечно доброй душой. В тяжелые часы обстрелов и воздушных тревог из буфета, вместе со звоном перемываемых тарелок, доносилось ее беззаботное, или казавшееся беззаботным, пение.
В первом этаже здания помещалась кают-компания личного состава госпиталя. Она служила одновременно и бомбоубежищем.
В декабре госпитальные служащие получали на завтрак стакан кипятку без сахару и триста граммов (суточный паек) плохо пропеченного, с различными примесями, черного хлеба. На обед и ужин давался мучной суп.
Весь ноябрь и первую половину декабря в кают-компании ютился маленький, белый с черным, щенок, помесь дворняжки и фокстерьера. В часы обеда он бегал между столами, поминутно становился на задние лапки и робко выпрашивал себе подаяние. В его слезящихся и грустных глазах зажигалась радость, когда кто-нибудь из обедавших бросал ему обугленную корку хлеба или выплескивал на пол чайную ложку жидкого клейкого супа.
Шура и я, еще не привыкшие после Ханко к ленинградскому режиму питания, чаще других подкармливали щенка. Но он с каждым днем все заметней худел и постепенно превращался в хрупкий скелетик, обтянутый редеющей шерстью. В один из декабрьских дней он исчез и больше не возвращался.
Дистрофия проявлялась целым рядом характерных симптомов. Слабевшие от недоедания люди начинали испытывать нестерпимое чувство голода. Им казалось, что они способны съесть любое количество самой разнообразной пищи. В тревожном полусне (они уже потеряли способность крепко и безмятежно спать) им грезились соблазняющие, вкусные блюда: жареные индейки, окруженные овалом печеных яблок, пироги с грибами и осетриной, куски дымящегося мяса с желтоватым жирком, утопающие в картофельном пюре или сладком, по-весеннему зеленом горошке. Эти несбыточные сны были мучительны. Просыпаясь, истощенные люди испытывали душевные и физические страдания.
Вместе с нарастанием чувства голода усиливалась работа почек. Няни, не успевали разносить по палатам стеклянные банки, которые беспрерывно требовались во всех концах отделения.
Некоторые раненые вызывали вначале улыбки соседей. Мичман Петрусян, лежавший больше месяца с переломом пяточных костей, случившимся на тральщике при подрыве на мине, кричал каждые четверть часа:
— Нянечка! Скорее несите мне «утку»! Я сейчас лопну от переполнения!
Няни проворно выносили из палаты стеклянные сосуды, сочувственно качали головами и говорили:
— Ишь, как мучается, несчастный! Он, бедняга, нахлебался морской воды, когда целую ночь плавал в заливе после гибели корабля.
Другой симптом истощения заключался в неостановимом, подчас катастрофическом падении веса. Толстяки теряли по 800—1000 граммов в день. Жизнерадостная и остроумная Мирра Ивенкова, ординатор третьего отделения, только два года назад получившая диплом врача, взяла как-то листок бумаги и молчаливо погрузилась в сложный математический расчет. Она размашисто написала последнюю цифру и усмехнулась:
— За декабрь я потеряла десять килограммов. Если существующая прогрессия останется неизменной, то к маю я сделаюсь невесомой. Вероятно, мне придется взлететь на небо.
Другая женщина-врач, отличавшаяся могучим телосложением, перед Новым годом превратилась в худенькую хрупкую девушку: за полтора месяца она потеряла почти половину своего веса. Мы не могли понять, сколько ей лет.
Многие из недоедавших испытывали необычайную сухость кожи. Потовые и сальные железы у них бездействовали, и тело, казалось, было покрыто шершавым, шелестящим пергаментом.
Съеденная пища плохо усваивалась из-за недостатка пищеварительных соков. Скудные обеды и ужины почти не всасывались из желудка и не давали желанного чувства сытости.
Все стали жаловаться на непреодолимую мышечную слабость и быструю утомляемость при физическом напряжении. Во время работы у многих возникало желание броситься в постель и поспать. Падение температуры тела, иногда до 35°, стало частым явлением. Этому понижению обмена веществ сопутствовало странное замедление пульса: даже у молодых людей число пульсовых ударов доходило до сорока в минуту. Это был по-блокадному экономный и размеренный пульс.
Всем известные признаки очень многих болезней потеряли в блокаде свое практическое значение, и врачи, ставя диагнозы, руководствовались главным образом внутренним, необъяснимым, выработанным долгими годами чутьем. Острый аппендицит и воспаление легких не давали теперь ни подъема температуры, ни увеличения числа белых кровяных шариков. Напряжение брюшных мышц, свойственное прободной язве желудка, было настолько слабым, что даже опытные хирурги не всегда находили его своими изощренными, чуткими пальцами.
Туберкулез, заражение крови, малярия и другие заболевания тоже проявлялись в неясных и часто неузнаваемых формах. Терапевты госпиталя, растерявшиеся на первых порах перед непонятными, нигде не описанными и пугающими своей новизной клиническими картинами, нуждались в руководителе. На помощь им пришел известный ленинградский терапевт профессор Тушинский. Он регулярно бывал в нашем госпитале. Постоянно дрожа от холода и зябко потирая большие, красные, ознобленные руки, с землистым цветом осунувшегося лица, он находил в себе силы не только делать многочасовые обходы больных, но и читать врачам занимательные, полные тонких клинических наблюдений лекции об особенностях «блокадной» медицины.
Приближался тысяча девятьсот сорок второй год. Погасло электричество, замерзли отопительные и водопроводные трубы. Девушки госпиталя начали возить воду с Невы. Они скользили по ледяным горам, увязали в непролазных снежных сугробах и после многих часов, проведенных у проруби, привозили на санках полурасплесканные бочки с водой. Камбуз, кормивший тысячу голодных людей, требовал много воды. Девушки через силу ходили на Неву и волокли на себе драгоценный груз. Так продолжалось всю зиму.
Самым теплым и уютным местом в отделении сделалась кубовая. В ней посменно дежурили две вольнонаемные женщины с красивыми фамилиями — Вольская и Иваницкая, до странности похожие одна на другую: обе маленькие, сутулые, седые, подслеповатые, но необыкновенно проворные и живые. Каждой из них шло по седьмому десятку. Эти сморщенные деловитые старушки работали с комсомольской неутомимостью, с бескорыстием и огоньком. С утра до ночи и всю ночь напролет они безотходно возились возле бурлящего «титана», и не было случая, когда бы отделение хоть на одну минуту осталось без горячей воды. Никто не знал, где и как им удавалось доставить дрова, чтобы поддерживать в топке кипятильника никогда не гаснущее, всегда веселое пламя. «Служба кипятка» была подобна хорошо выверенному часовому механизму.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: