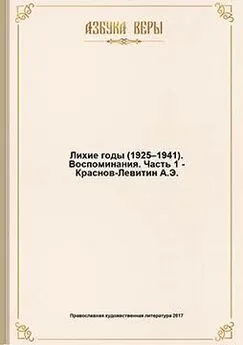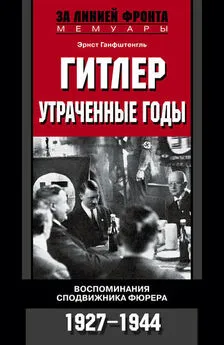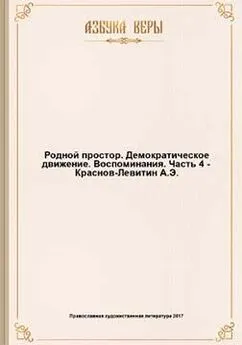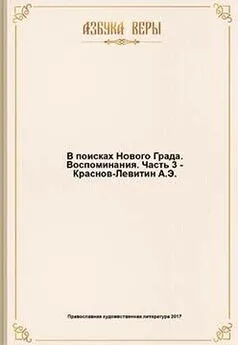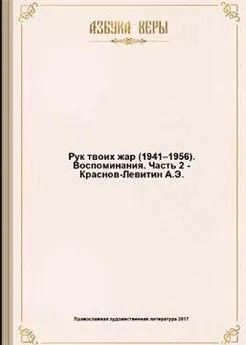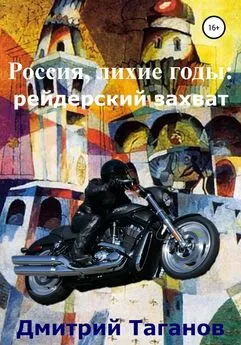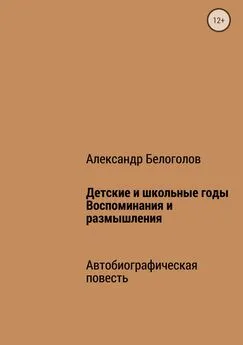Анатолий Краснов-Левитин - Лихие годы (1925–1941): Воспоминания
- Название:Лихие годы (1925–1941): Воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Краснов-Левитин - Лихие годы (1925–1941): Воспоминания краткое содержание
Лихие годы (1925–1941): Воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Октябрьская революция. 1918 год. Приезд в Питер Патриарха Тихона. Литургия в Исакиевском соборе. Проповедь произносит молодой священник Платонов. Он говорил о Патриархе как о путеводном светоче России, он вспоминал о Патриархе Гермогене, Патриархе-Подвижнике и Крестоносце. Он сравнивал торжество в Исакиевском соборе с Входом Господним в Иерусалим. Он говорил о Патриархе, грядущем на вольную страсть. Эхо разносило его сильный, гнусавый голос; тысячи людей, переполнявших огромный собор, были потрясены. Умиленный Патриарх, сняв камилавку с архидиакона, возложил ее на молодого священника, когда он после проповеди вернулся в алтарь, и со слезами на глазах произнес: «Аксиос». «Аксиос, аксиос, аксиос!» — подхватило духовенство. Отец Николай Платонов, возведенный вскоре в протоиереи, стал героем дня и вскоре получил настоятельство в Андреевском соборе.
Летом 1918 года Платонов был арестован. Это было страшно: было время красного террора, на Гороховой 2, в подвалах, расстреливали пачками. Но все хорошо, что хорошо кончается. Через две недели отец Николай возвращается к себе домой. Его деятельность продолжается. В начале церковной смуты Платонов — ярый тихоновец. Он горой за Патриарха, он произносит речи, очень яркие, очень эмоциональные, очень убедительные, в которых защищает Патриарха и громит живоцерковников.
1923 год — арест. Почитатели Платонова его оплакивают, готовятся служить панихиды о мученике за веру. Но опять «все хорошо, что хорошо кончается». Через месяц в его квартире, 6 линия 11, ночью раздается звонок. Дрожащая Елизавета Михайловна открывает дверь и глазам не верит: на пороге стоит ее муж, улыбающийся, веселый. «Выпустили».
И очередное перевоплощение. Платонов — ярый живоцерковник. Он носится как угорелый по Васильевскому острову. В короткий срок он все василеостровские церкви (кроме Киевского подворья — монахи-украинцы проявили чисто хохлацкое упрямство) приводит к Живой Церкви. Андреевский собор становится цитаделью церковного обновления. Каждое воскресение отец Николай Платонов, взойдя на кафедру, произносит проповеди. Он горой за Живую Церковь. Он произносит речи, очень яркие, очень эмоциональные, очень убедительные, в которых защищает Живую Церковь и громит тихоновцев.
Еще 2 года. И вот, 8 ноября 1925 года, в храме св. Великомученицы Екатерины, — архиерейская хиротония. Протоиерея Николая Платонова рукополагают во епископа Гдовского. Это первый женатый епископ у нас в Питере. Я был на его хиротонии. Здесь начинаются мои личные о нем воспоминания.
В 1972 г., в лагере, я видел сон. Мне приснился Платонов. Видел его как живого. Рядом с ним — Елизавета Михайловна и его вторая жена, Мария Александровна. Мария Александровна, показывая на своего мужа, сказала: «Не оскорбляйте его!»
Я не буду оскорблять его. Я знаю, что все эти перевоплощения не давались даром. (А кроме тех, о которых я говорил, их было еще два: отречение от веры и превращение в антирелигиозного пропагандиста в 1938 г. и публичное раскаяние и причащение Святых Тайн перед смертью в 1942 г.) В этих перевоплощениях — боль, мучительный надрыв. И в его пламенных, подчас истерических, сначала обновленческих, а потом и антирелигиозных, речах — желание убедить не столько других, сколько самого себя. И я его любил. Я до сих пор помню его речи, слышанные мною в детстве, и храню их в своем сердце. Они многому меня научили.
Весна 1926 года. Великий пост. В 4-ую неделю Великого поста — пассия. Чтение Евангелия о страданиях Христовых. Верующие с зажженными свечами. После Евангелия — духовный концерт. На кафедру проповедника всходит архиепископ (он получил это звание от обновленческого синода через 3 месяца после епископской хиротонии) Николай Платонов. Говорит о страстях Христовых 2 часа. Речь прерывается песнопениями страстной седмицы в прекрасном исполнении великолепного хора Андреевского собора. Платонов говорит горячо, все более и более возбуждаясь под влиянием собственной речи. И наконец, вершина! Платонов сказал о наших грехах, которыми мы распинаем Господа.
«Но ты мне скажешь, я такой, как все! О, если такой, как все, не надо было приходить Господу! Не надо, не надо было идти на крест!
О, если такой, как все? Зачем было так страдать, так мучиться на кресте?
О, если такой, как все? Излишен крест, излишне распятие, излишен Христос!»
Вся толпа, переполнявшая собор, дрогнула в едином порыве, и сейчас, через 50 лет, я слышу этот голос и вижу искаженное какой-то судорогой лицо проповедника. И мне стало тоже чего-то мучительно стыдно и я дал себе слово никогда не быть, как все.
И это же чувство я испытал через тридцать с лишком лет, когда прочел пастернаковское:
Для кого на свете столько шири,
Столько муки и такая мощь.
Есть ли столько душ и жизней в мире,
Столько поселений, рек и рощ.
Проповедник и поэт встретились друг с другом. И другая его речь: на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Осенью 1926 года.
Он говорил о мире, потрясенном, смятенном, смутно ожидающем преображения. И опять внезапный порыв: «И уже близок час, когда вслед за Богоматерью все человечество войдет во Святая Святых!»
У великих проповедников бывают вдохновенные порывы, когда происходит полное слияние оратора со слушателями. Когда и оратор, и слушатели совершенно забывают обо всем на свете. Это бывает очень редко, но эти мгновения и у оратора, и у слушателей остаются на всю жизнь. Сейчас я рассказал о двух таких моментах.
И другой человек, во много раз более крупный, чем Платонов, подвизался тогда в обновленческой церкви в Питере. Александр Иванович Боярский.
В противоположность беспринципному, метущемуся, морально растленному Платонову (я обещал его не оскорблять, но при всем желании не могу найти для него другой характеристики, да простит меня Мария Александровна!), Боярский поражал своей цельностью и моральной чистотой. Самая фигура его производила такое впечатление. Высокий, плотный, чернобородый, он крепко держался на ногах, и в облачении, оправдывая свою фамилию, действительно походил на боярина. Но душа у него была отнюдь не боярская.
Если Платонов метался из стороны в сторону, всегда желая «идти в ногу со временем», поспеть за победителями, и в этом метании изломал и погубил себя, то Боярский с самой юности был убежденным христианским социалистом и пронес это знамя до самой своей смерти в тюремной камере, не изменив ему ни разу.
Он родился в 1885 году в семье священника. Еще в Духовной Академии он проявлял интерес к рабочему вопросу. В 1906 году Александр Иванович — студент второго курса Духовной Академии — появился среди рабочих Спасо-Петровской мануфактуры. «В то время, — вспоминал впоследствии Боярский, — в среде петербургской духовной интеллигенции к рабочим относились со страхом: о них говорили как о богохульниках, людях, которые только что живьем не едят попов». Однако с первой же беседы отец Боярский приобретает популярность в рабочей среде. (См. «Вестник труда», Петроград, 12 мая 1918 г., стр. 1, А. И. Боярский, «Среди рабочих»).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: