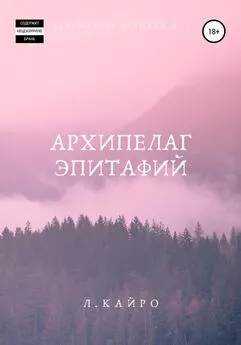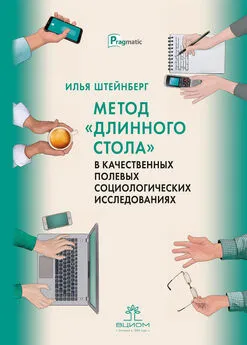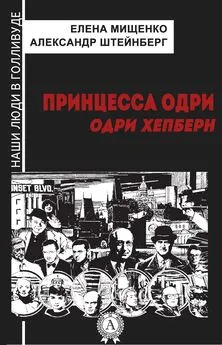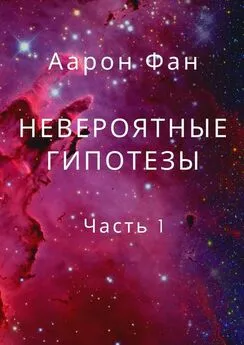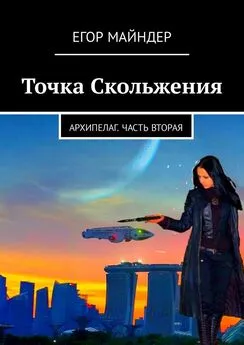Аарон Штейнберг - Литературный архипелаг
- Название:Литературный архипелаг
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое Литературное Обозрение
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-86793-694-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Аарон Штейнберг - Литературный архипелаг краткое содержание
Литературный архипелаг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В это же время Лев Платонович решил посоветоваться со мной относительно своей старшей дочери: «Поскольку вы обо мне так много знаете, о моих дочерях и многое другое, я должен рассказать вам о своей старшей дочери Иришке. Она очень похожа на свою знаменитую тетю Тамару Карсавину. Ей как-то трудно найти мужа. За ней многие ухаживают, но ей никто не нравится». Было очевидно, что Ирине хотелось бы найти человека, который хоть отдаленно напоминал бы ей отца. Когда Ирине было двадцать лет, ее послали в Лондон к тете, которая жила тогда на Great Ormond St. Надеялись, что в Лондоне, у тети, Ирина скорее найдет мужа. И тут Лев Платонович открыл мне свою вторую тайну, не меньшую, чем первая, — его монашеское имя, которое он, с Божьей помощью, примет в монастыре. Эту тайну он открыл мне, как и обещал, после того, как закончил чтение «Поэмы о смерти». Лев Платонович объяснил мне, что не хочет расставаться с буквой «Л». Лев и Лазарь чем-то близки друг другу. А его монашеское имя будет — Лавр. Вторая же тайна состояла в том, что Льву Платоновичу хотелось, чтобы его старшая дочь Ирина вышла замуж за еврея: «Ей было бы хорошо с мужем-евреем, я бы считал это большой удачей, имейте это в виду». Намеченным для Ирины мужем был тот самый Клайн, который перевел на немецкий язык мою книгу о Достоевском. Он был очень хороший, способный и знающий человек, но женился впоследствии на немке. В Англии Ирина очень тосковала по отцу. Она не могла ужиться с тетей. Но это не была вина ни Тамары Платоновны, ни ее мужа [697]. Однажды Ирина, зная о моей дружбе с ее отцом, привезла мне напечатанный оттиск «Поэмы о смерти». Моей покойной жене она как-то раз сказала: «Ну что ж мне делать? Я без папы жить не могу».
Когда советские войска вступили в Литву, Лев Платонович был вскоре сослан куда-то в Сибирь [698]. Наша встреча с ним в 1937 году была последней. У меня тогда было такое чувство, что Лев Платонович предчувствовал, уже тогда знал, что вернется в Россию как пленник.
Всем изучающим и интересующимся своеобразным поворотом русской религиозной мысли следует читать и изучать все сочинения Льва Платоновича Карсавина, включая монографию «Джордано Бруно» и, конечно, его книгу «Философия истории». Не знаю, с кем можно сравнить Льва Платоновича, но в ряду портретов, которые я посильно старался дать тут, Карсавин, я думаю, один из самых поразительных и оригинальных личностей, он неподделен, неподражаем, каким должен быть каждый человек, который, как я верю, есть подобие Божие. Но политика — это опасная вещь. В целях политики начинают подделывать, лгать. Уже в последние годы мне пришлось читать вывезенные из Советской России записи лекций по эстетике, якобы прочитанных в Красноярске Карсавиным. Это была явная подделка, подделка людей, которые и понятия не имели, кто был Карсавин. Как если бы деревенская плясунья стала бы выдавать себя за Тамару Карсавину. Другой Карсавиной нет, как нет второго Льва Платоновича Карсавина. Необходимо изучать его стиль, чтобы отличать подделки от оригинала.
Я хочу надеяться, что Лев Платонович Карсавин кончил свою жизнь достойным братом Лавром в своем монастыре.
IX. Лев Шестов
В 1966 году исполнилось сто лет со дня рождения Льва Исааковича Шестова. Появились статьи и исследования о его жизни и творчестве. Книги его, в особенности о Достоевском, Ницше и Паскале, продолжают цитироваться и в русском оригинале, и в переводах на разные иностранные языки [699]. Нет сомнения, что Шестов переступил порог своего второго века не менее живым, чем тогда, когда я впервые с ним познакомился, а это было больше полустолетия тому назад. Говоря словами Мережковского (который, несмотря на свой огромный труд и большую славу в прошлом, все больше и больше забывается), Шестов, в отличие от Мережковского и ему подобных современников моих, действительно стал «спутником», если не «вечным», то, во всяком случае, спутником сего века [700]. Как это случилось и что может из этого заключить внимательный очевидец?
Начну со своих «свидетельских показаний» и буду придерживаться, насколько позволит мне память, хронологического порядка.
Осенью 1907 года, не окончив еще гимназии, я поселился в Гейдельберге, стал слушать лекции по философии и неимоверно много читать. Увлекаясь с еще более ранних лет русской литературной критикой, я, естественно, скоро натолкнулся на «Историю русской общественной мысли» Иванова-Разумника, с которым десять лет спустя мне пришлось так тесно сойтись. Он же тогда заинтересовал меня, благодаря другой своей книге — «О смысле жизни», работами Шестова [701]«Философия трагедии» и «Апофеоз беспочвенности» [702]. Гейдельберг был как бы по традиции открыт для новых философских веяний. В эти годы именно там появились признаки возрождения гегельянства и одновременно пробудился интерес к Бергсону. Наш прославленный историк философии Вильгельм Виндельбанд объявил, что со времен Декарта во Франции не было такого оригинального мыслителя, как Анри Бергсон. На смену умеренному и осторожному критическому идеализму Канта смело пробивались первые ростки антирационалистической метафизики. Все это радостно отмечалось в сознании и подымало дух. Я мечтал о широчайшем «систематическом» синтезе науки и философии, философии и религии, Запада и Востока, и вот мне показалось, что я уже в состоянии приложить руку к подготовлению новой эпохи отважной мысли. Шестов стал для меня магическим именем [703]. Казалось, стоит лишь Европе узнать поближе стихию мысли, одушевляющую его и его окружение, как сразу займется заря духовного обновления. Было мне в то время без малого девятнадцать лет.
Дело было спешное, и, не размышляя слишком долго, я написал короткое письмо «глубокоуважаемому писателю Льву Шестову», в котором сжато и горячо излагал мотивы, побудившие меня просить разрешения на перевод всех книг Шестова на немецкий язык. Я тогда не знал ничего об авторе: ни сколько ему лет, ни что он из себя представляет, ни даже того, что обращаюсь к псевдониму. Написал, запечатал и отправил по адресу московской «Русской мысли», в которой появилась статья Шестова об Ибсене [704]. Опустив письмо в ящик, я бросил взгляд на ту сторону реки, где вилась по холмам Philosophenweg — тропа философов, усмехнулся и громко по-русски сказал: «Какая чепуха!»
Прошли месяцы. Я почти успел забыть о своем глупом письме «уважаемому писателю». Чем более осваивался я с горными пейзажами, тем быстрее менялась перспектива: то, что еще год тому назад казалось грандиозным, постепенно снижалось в кряжистый ряд, а какой-нибудь ранее едва приметный библейский стих разгорался внутренним светом и сиял высоко, как звезда. Вместе с тем я стал требовать от всех сильных духовного мира сего взаимного понимания. И тут-то мне вдруг померещилось, что Шестов именно этим даром наделен слишком скупо, что, говоря грубо и дерзко, он плохо понимает и Толстого, и Достоевского, и Ницше. (Ницше в то время я нежно любил, как больного младшего брата.) Я был искренно рад, что мое «объяснение», отправленное в пространство на имя Льва Шестова, не дошло, и, глядя из окна на ту сторону Неккара, я дал себе однажды вечером слово выбирать в будущем корреспондентов осторожнее.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
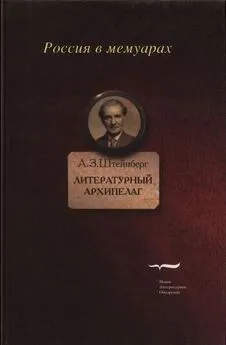


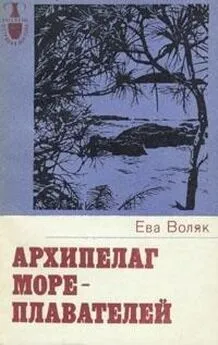
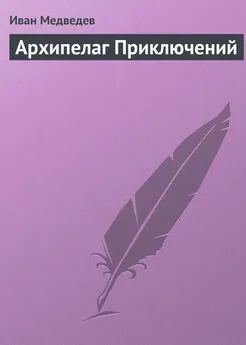
![Николай Побережник - Потерянный берег. Рухнувшие надежды. Архипелаг. Бремя выбора [сборник]](/books/1099462/nikolaj-poberezhnik-poteryannyj-bereg-ruhnuvshie-nad.webp)