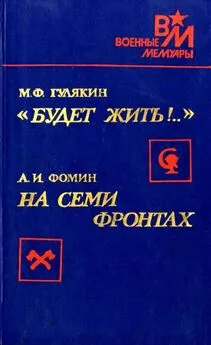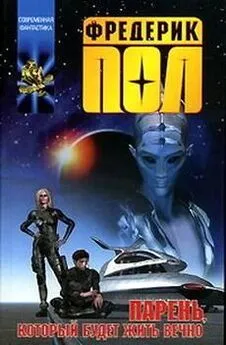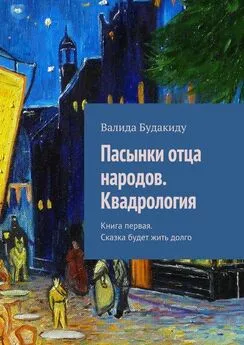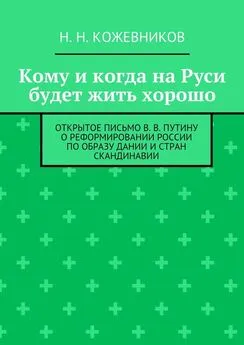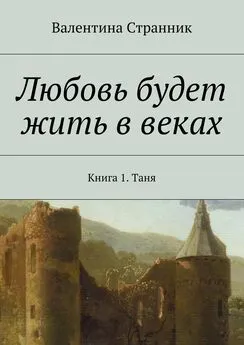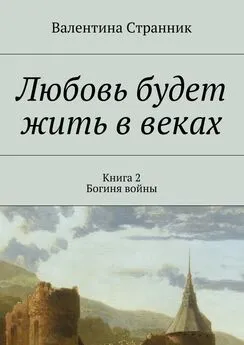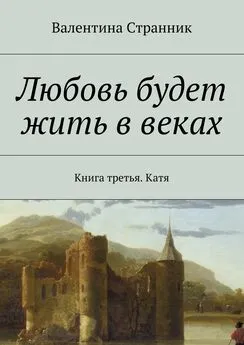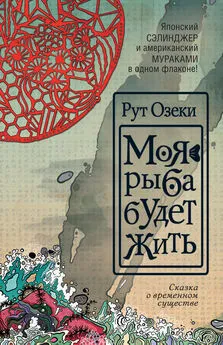Михаил Гулякин - «Будет жить!..». На семи фронтах
- Название:«Будет жить!..». На семи фронтах
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Воениздат
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-203-00481-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Гулякин - «Будет жить!..». На семи фронтах краткое содержание
В воспоминаниях А. И. Фомина рассказывается о действиях штурмовой инженерно-саперной бригады, о первых боевых делах «панцирной пехоты», об успехах и неудачах.
Представляют интерес воспоминания об участии в разгроме Квантунской армии и послевоенной службе в Харбине.
Для массового читателя.
«Будет жить!..». На семи фронтах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В ноябре 1942 года на базе саперных бригад, оставшихся после упразднения саперных армий, начали формировать инженерно-минные бригады РВГК семибатальонного состава. В Закавказье на этой же основе создавались горные инженерно-минные бригады.
Нашу 26-ю саперную бригаду перебросили в Буйнакск для той же цели — на ее базе формировалась 5-я горная минно-инженерная бригада резерва Верховного Главнокомандования в составе семи минно-инженерных батальонов и подразделений обслуживания и управления. В штабе упразднялись должности инженеров-фортификаторов, в связи с чем многие мои боевые товарищи откомандировывались в резерв офицерского состава фронта. Меня назначили помощником начальника оперативного отделения штаба, которое возглавил майор Я. П. Комиссаров. Прибыл новый командир бригады — полковник А. Ф. Визиров. Произошли изменения и среди среднего и младшего командного состава. Что касается бойцов, то новая бригада значительно помолодела, а следовательно, повысилась и ее боеспособность.
В Буйнакске я получил свою первую боевую награду, а на петлицах вместо трех кубарей появилась одна шпала, и теперь стал я именоваться военным инженером 3 ранга, что соответствовало званию капитана.
Несмотря на конец ноября, стояла чудесная погода. Днем мы обходились без шинелей и только к вечеру, когда с гор начинал сбегать холодный ветерок, снова облачались в них. Но отдых на войне — дело кратковременное. Вскоре бригада получила приказ о возвращении в район Грозного.
Видимо, отличная погода, стоявшая в Буйнакске, соблазнила командование воспользоваться кратчайшей дорогой, проходящей в основном по северо-восточным склонам Главного Кавказского хребта. Местные жители уверяли, что по ней могли пройти и автомобили. Но когда? Летом! Осенью в горах было далеко не так уютно, как в Буйнакске, тем более что по пути следования предстояло преодолеть несколько горных перевалов и переправляться через многочисленные реки и речушки. Как-то поведут себя наши заезженные ЗИСы с лысой резиной на осенних горных дорогах?
Неприятности начались на первых же километрах нашего пути. Один только штабной автобус, побывавший летом в донской передряге, лихо катил впереди колонны, а остальные автомобили постепенно отставали. Когда через час пути майор Комиссаров устроил пятнадцатиминутный привал, то за это время к нам подтянулось всего две машины: продовольственная и с комендантским взводом. Другие остались далеко внизу. К концу дня на седле очередного перевала нас неожиданно остановили… пограничники. Кого угодно, только не бойцов в зеленых фуражках ожидали мы встретить в этом горном урочище. Лейтенант, проверив наши документы, посоветовал:
— Рекомендую переночевать у нас. Светлого времени в вашем распоряжении совсем мало. А ночь в горах— не совсем приятное время для путешествий.
— А что, опасно, что ли? — задал кто-то вопрос.
— А в этих местах всегда опасно, — уклончиво ответил лейтенант.
— Ну что же, — согласился Комиссаров, — ночью в незнакомых горах можно действительно свернуть себе шею. Остаемся здесь. Да и остальные машины, может быть, подтянутся за ночь сюда.
Пожевав колбасы с хлебом и запив все это чаем, которым нас угостили пограничники, стали устраиваться на ночлег.
Лейтенанта-пограничника мы пригласили в свой автобус. Разговорились. Выяснилось, что пограничники в тылу — необходимая мера пресечения диверсионных, шпионских и террористических актов, организуемых гитлеровской разведкой.
Навербовав разного отребья, гитлеровцы создали из них небольшие банды, которые по ночам устраивали поджоги аулов, разрушали мосты и переправы, нападали на семьи активистов. Это была обычная фашистская бандитская тактика: деморализовать наш тыл на том направлении, где они ведут наступление. В данном случае— под Грозным.
— Многих выловили, — закончил лейтенант. — Но не всех. Так что вам двигаться надо с определенными предосторожностями.
Ночь прошла без каких-либо событий. Из нас никто не спал: было очень холодно и сыро, а к утру над горами повис такой туман, что в двух шагах ничего не рассмотреть. Часам к трем дня туман поредел, и мы решили ехать дальше. Беспокоило, однако, то, что за все время, проведенное у пограничников, нас не догнала ни одна бригадная машина.
— Куда они запропастились? — волновался Комиссаров. — Ведь ехали все в одном направлении.
— В такой туман и с такой резиной, как на наших машинах, ехать опасно. Где-нибудь отстаиваются, — успокаивал его шофер нашего автобуса.
Подождав еще некоторое время, решили трогаться в путь. Первым — наш штабной автобус, за ним — ЗИС с продовольствием, замыкающей — полуторка с бойцами. Дорога становилась все хуже. Если на первых порах она еще имела хоть какое-то покрытие, то теперь исчезло и само полотно, сплошь изрезанное стекавшими с откосов дождевыми потоками. Ехали медленно и осторожно.
По какому-то необъяснимому случаю, который в обиходе называют законом подлости, в самом узком и опасном месте, где с одной стороны над дорогой нависала вертикальная стена, а с другой пугал невообразимой крутизны склон, у нашего автобуса закапризничал двигатель. Шофер буквально притер его к скале, уступая дорогу следующим автомобилям. Водитель машины с продовольствием, боясь задеть наш автобус, взял слишком много вправо и, уже объехав нас, вдруг забуксовал.
— Не газуй! — кричал ему наш водитель. — Под откос сверзишься!
— Ничего, выскочу! — самоуверенно ответил тот.
Однако машину начало заносить, и она медленно сползала к обрыву. Едва водитель успел выскочить из кабины, как грузовик пошел под откос. Метров десять он прыгал по камням, потом, повалившись на борт, закувыркался дальше, оставляя бочки и мешки с продовольствием. Наткнувшись на большой обломок скалы, он остался лежать на боку, с обломанными бортами, смятой кабиной и изуродованным радиатором. Водитель разбившейся машины, молча постояв несколько секунд на краю обрыва, вздохнул и уселся в кабину следующей машины. Обычно уравновешенный, майор Комиссаров не выдержал:
— Нашкодил — и в кусты, а продукты кому оставим? Ты знаешь, какая цена тому, что по твоей милости развалилось по откосу? Отправляйся вниз и собери все, вплоть до последнего сухаря. Не соберешь — под трибунал. Понял? — И, обращаясь ко всем нам, добавил: — Давайте, товарищи, поможем этому балбесу собрать продукты и что можно погрузим на вторую машину и в автобус. Не пропадать же такому добру.
Более часа мы собирали банки со свиной тушенкой и колбасой, пакеты с «геркулесом» и ржаными сухарями, мешки с крупой и прочив уцелевшие продукты. Пока мы лазали по откосу, а шофер исправлял мотор, прошло часа три. Но мы не теряли еще надежды до темноты выбраться из гор в Терскую долину. А там, по нашим расчетам, до Грозного оставалось не более 40–50 километров. Но расчеты не оправдались. Во-первых, не учли, что придется делать остановки ежечасно на десять-пятнадцать минут для охлаждения двигателей, натужно завывающих на крутых подъемах. Во-вторых, к вечеру начал вновь сгущаться туман, и вскоре свет фар едва просвечивал его на полтора-два метра. Автомобиль с комендантским взводом безнадежно отстал и затерялся. Мы медленно двигались в полном одиночестве и тишине. Ко всему прочему начало темнеть. В наступивших сумерках окружавшая нас белесая среда казалась даже липкой на ощупь. Ехать было практически невозможно. И все же мы ехали. Чтобы не свалиться в пропасть, пришлось мне встать на ступеньку автобуса и, держась за полуоткрытую дверцу, подсказывать шоферу, куда поворачивать руль, так как я видел хотя бы грань, отделявшую дорогу от откоса. А вскоре даже появился ограничительный дорожный парапет, выложенный насухо из плитняка. Видимо, здесь за дорогой кто-то ухаживал. Это говорило о близости населенного пункта. В одном месте мне показалось, что парапет повернул вправо.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: