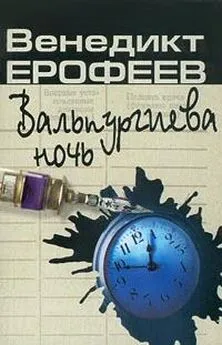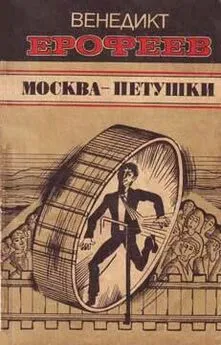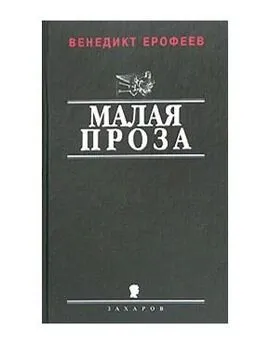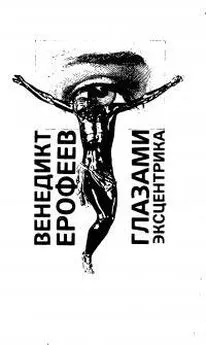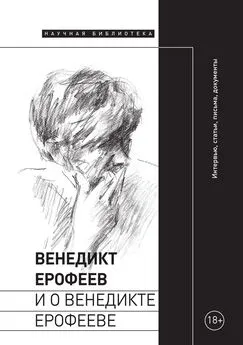Олег Лекманов - Венедикт Ерофеев: посторонний [с иллюстрациями]
- Название:Венедикт Ерофеев: посторонний [с иллюстрациями]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство ACT: Редакция Елены Шубиной
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-111163-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Лекманов - Венедикт Ерофеев: посторонний [с иллюстрациями] краткое содержание
Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский — авторы первой биографии Венедикта Ерофеева (1938-1990), опираясь на множество собранных ими свидетельств современников, документы и воспоминания, пытаются отделить правду от мифов, нарисовать портрет человека, стремившегося к абсолютной свободе и в прозе, и в жизни.
Параллельно истории жизни Венедикта в книге разворачивается «биография» Венички — подробный анализ его путешествия из Москвы в Петушки, запечатленного в поэме.
В книге представлены ранее не публиковавшиеся фотографии и материалы из личных архивов семьи и друзей Венедикта Ерофеева. ***
***
Венедикт Ерофеев: посторонний [с иллюстрациями] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Итак, в центре «Москвы — Петушков», композиционном и идейном, разворачивается «литературный, “мифический” пир» [444] Седакова О. Пир любви на «Шестьдесят пятом километре», или Иерусалим без Афин // Канун. Альманах. Вып. 3. Русские пиры. СПб., 1998. С. 356. Далее: Седакова.
, о котором особенно ярко и убедительно написала свидетельница многих ерофеевских пиров Ольга Седакова [445] Ольга Седакова отмечает, что сам Ерофеев подчеркнул неслучайность этих ассоциаций, когда на упоминание сюжета симпосия или сатурналий «с некоторой обидой ответил: “Разве вы не заметили, что это уже есть в Петушках?”» (Книжное обозрение. Ex libris НГ. 1998. 22 октября).
. Согласно ее концепции, «“миф”, который просвечивает в железнодорожной пирушке, <...> не что иное, как платоновский “Пир” с его темой прославления Эрота...» [446] Седакова. С. 358.
В подтверждение этому подтексту приводятся остроумные соответствия: Сократ приходит к пирующим после «уединения в сенях соседнего дома» [447] Седакова. С. 359.
, а Веничка — после уединения в тамбуре; оба, прежде чем присоединиться к обществу, медитируют; рассуждения об икоте, предшествующие «симпосию», напоминают об икоте Аристофана, а черноусый и черноусая в беретах отсылают к речи того же Аристофана об андрогинах [448] См.: Седакова. С. 360.
. Но, по Седаковой, игра внешних совпадений с платоновским «Пиром» только для того и затеяна Ерофеевым, чтобы тем сильнее противопоставить «любви-восхождению ко все более всеобщему и вечному <...> евангельский кенозис [449] Самоуничижение Христа через вочеловечивание.
, еще и вызывающе заостренный: жалость к чирьям, к праху, к самому низкому, глупому, смертному, безобразному» [450] Седакова. С. 362-363.
. В седаковской интерпретации платоновский Эрот, от матери-нищеты (Пении) стремящийся к богатству отца (Пороса), «встречает в Веничкином случае альтернативу: его Эрот-жалость стремится к матери Пении, нищете» [451] Седакова. С. 364.
.
Можно подобрать и множество других значимых деталей, подтверждающих взгляд на Веничкин пир как на полемический ответ христианской любви-жалости — надмирному платоновскому Эросу. Еще с предпиршественных перегонов началось у Венички последовательное умаление любви, ее спуск в область унижаемого и отталкивающего. На 43-м километре ему приходится отказаться от коктейля «Первый поцелуй» в пользу «Поцелуя тети Клавы» (161). Такой коктейль и названием своим, и составом («вшивота») учит смирению, любовно-благодарному принятию того, что есть; его урок заключается в преображающем навыке сливать «дерьмо в “Поцелуй”» [452] «Согласен с вами: он невзрачен по вкусовым качествам, он в высшей степени тошнотворен, им уместнее поливать фикус, чем пить его из горлышка, — согласен, но что же делать, если нет сухого вина, если нет даже фикуса? Приходится пить “Поцелуй тети Клавы”...» (161).
(161). Приязнь ко всему, что находится по ту сторону красоты, после созерцания бездн и удесятерения дозы дорастает до «восторга <...> чувства»: «Теперь, после пятисот “кубанской”, я был влюблен в эти глаза, влюблен, как безумец» (161). Всякое низкое, отторгаемое вкусом явление в экстатическом восприятии Венички тут же притягивается к сфере Эроса; так, «тупого-тупого», вылетающего из рук «умного-умного», рассказчик, не брезгуя немудрящим каламбуром, уподобляет «тупой стреле Амура» (162). В свою очередь, по закону бурлескно-травестийной симметрии, герой поэмы и сферу духа всегда готов перевести в низко-эротический план — теми же средствами метафорического каламбура: «У меня не голова, а дом терпимости» (164).
Когда же, на 61-м километре, дело наконец доходит до «застольных» выступлений, автор ставит на уже заданную логику «высокого — низкого», при этом резко усиливая амплитуду стилистических и смысловых перепадов — от взлета к Афродите Урании к падению в грязь венерологических «клиник и бардаков» (181). Если в тамбуре одинокий Веничка «грезил» о «Первом поцелуе» (161), а довольствовался лишь «Поцелуем тети Клавы», то теперь пирующие жаждут романтического подъема, как от тургеневской «Первой любви» («Давайте, как у Тургенева!», 173), а получается — опрокидывание в «безобразный» смех (176) и «чудовищный» стиль (177), к чему-то за пределами «На дне» и «Ямы». Так, в рассказе «декабриста» любовь-мечта и любовь-страданье подменяются любовью за «рупь», женщина-идеал, недостижимая арфистка Ольга Эрдели, — «пьяной-пьяной» «мандавошечкой», арфа — балалайкой (174). Из истории Митрича, после 65-го километра, Эрос вообще выпадает, угадываемый лишь в тошнотворных метонимических намеках: ясно, что моторная лодка председателя — субститут ладьи вагнеровского Лоэнгрина; можно предположить, что председательские чирьи — травестия мотива телесной порчи, угрожающей рыцарю Грааля во втором действии оперы; любовная же линия оперного сюжета так и остается в бормотании Митрича неразрешимым «иксом», ключ к которому приходится ловить в самой гуще гробианистского гротеска («...Стоит и плачет, и пысает на пол, как маленький», 176). Третья часть «литературного разговора» (177), речь «женщины трудной судьбы» после Павлово-Посада, воспринимается как абсурдный итог воспоминаний о «первой любви», низвергающих Афродиту с ценностного верха в обесценивающий низ (от Пушкина — автора «Евгения Онегина» к Пушкину вульгарного присловья; от Жанны д’Арк к приключениям «на свою попу», 179; от «поисков своего “я”» к перепою, 178; от схимы к блядству [453] «Поблядую месяцок и под поезд брошусь» (178).
; от «Господа Бога» к выбитым зубам, 178).
Нельзя не согласиться с Седаковой — замещение прекрасного лика Эроса все более и более безобразными обличьями ведет к радикальной переоценке избранной темы: вместо поиска «первой любви» — поиск ее «последних» оснований, вместо восходящего пути к «транс-цен-ден-таль- ному» — нисходящий путь к пониманию всякой «дряни» (175). Веничка становится на этот путь сразу, как обнаружил пропажу четвертинки, — между 43-м километром и Храпуново. Приступая к розыску, он подгоняет себя: «пора искать человеков!» (162) и так смешивает евангельскую формулу [454] В Евангелии от Луки Иисус Христос говорит, обращаясь к рыбаку Симону, будущему апостолу Петру: «И сказал Симону Иисус: не бойся, отныне будешь ловить человеков» (Лука 5:10). См.: Власов. С. 327.
с детективом [455] «Теперь начинается детективная повесть» (162).
. Но что же следует из такого парадоксального совмещения? Прежде всего — превращение расследования в акт любви «ко всякой персти» (176): поимка злоумышленников чревата не обвинением и наказанием, даже не восстановлением порядка, а приглашением на пир, угощением и хвалой («ты хорошо рассказал про любовь!», 176); детективное дознание — уже не сличением улик, а спасительным постижением «потемок чужой души» (175). Так в какой-то момент, на подходе к Павлову-Посаду, — в ту минуту, которую Седакова справедливо считает кульминацией всего пира, Веничка как бы сменяет роль Сократа на роль св. Франциска Ассизского, прислуживающего прокаженным, утешающего разбойников и убийц. Пародийно отталкиваясь от заданной на пиру «тургеневской» темы, да еще с каламбуром («последняя жалость», выраженная в одном из последних произведений автора «Первой любви» — стихотворении в прозе «Мне жаль...» [456] Ср.: «А я сидел и понимал старого Митрича, понимал его слезы: ему просто все и всех было жалко: жалко председателя за то, что ему дали такую позорную кличку, и стенку, которую он обмочил, и лодку, и чирьи — все жалко» (176) — «Мне жаль самого себя, других, всех людей, зверей, птиц... всего живущего.
), герой делится одной из самых задушевных ерофеевских идей. Низшая точка пира, погружение в стихию слизи и мочи, оборачивается высшей — откровением и проповедью евангельской любви-жалости: «Первая любовь или последняя жалость — какая разница? <...> Жалость и любовь к миру — едины. Любовь ко всякой персти, ко всякому чреву. И ко плоду всякого чрева — жалость» (176).
Интервал:
Закладка:
![Обложка книги Олег Лекманов - Венедикт Ерофеев: посторонний [с иллюстрациями]](/books/1090499/oleg-lekmanov-venedikt-erofeev-postoronnij-s-ill.webp)