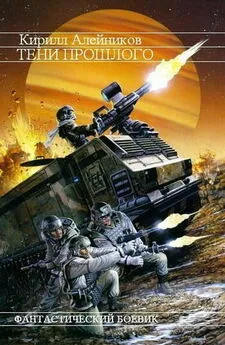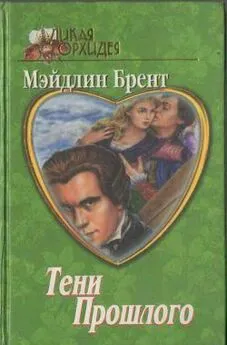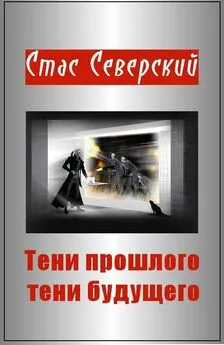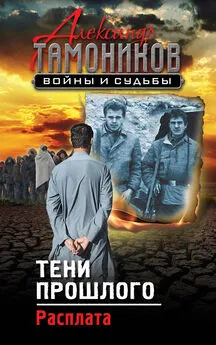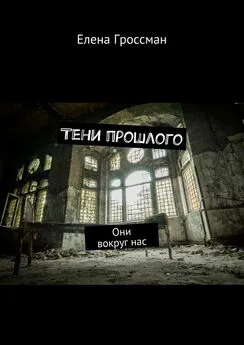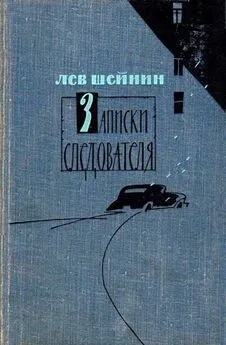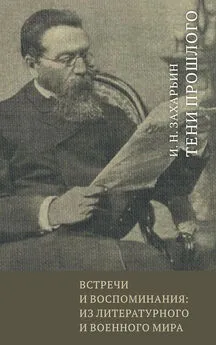Лев Тихомиров - Тени прошлого. Воспоминания
- Название:Тени прошлого. Воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство журнала «Москва»
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-89097-034-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Тихомиров - Тени прошлого. Воспоминания краткое содержание
Это воспоминания, написанные писателем-христианином, цель которого не сведение счетов со своими друзьями-противниками, со своим прошлым, а создание своего рода документального среза эпохи, ее духовных настроений и социальных стремлений.
В повествовании картины «семейной хроники» чередуются с сюжетами о русских и зарубежных общественных деятелях. Здесь революционеры Михайлов, Перовская, Халтурин, Плеханов; «тени прошлого» революционной и консервативной Франции; Владимир Соловьев, русские консерваторы К. Н. Леонтьев, П. Е. Астафьев, А. А. Киреев и другие.
Тени прошлого. Воспоминания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Если было у Савицких существо, заслуживающее сожаления, так это только одна тетя Настенька. Еще не старая, она уже распростилась со всеми мечтами о замужестве и переносила это не с хохотом и шутками, как Александра Павловна, а с недовольством и укором судьбе. Едва ли она могла с кем-нибудь откровенно отвести душу, едва ли она имела друзей. Даже с добрейшей Варварой Николаевной я не замечал у нее сердечных отношений. И она как-то замкнулась в холодном достоинстве классной дамы. В какой бы ранний час дня вы ее ни встретили, она уже была в светском мундире, одета с иголочки, затянута в корсет, вытянута, как аршин проглотила. Племянницы ее не любили, а Лидия прямо ненавидела, потому что тетя Настенька обучала их педантически строго и скучно, никогда не ободряя, а всегда порицая и упрекая в непонятливости и лености. «Она меня до того довела, — жаловалась Лидия, — что я даже сама себя стала считать никуда не годной, неспособной дурой». Тетя Настенька, конечно, учила, как ее учили в Москве. Все московское осталось для нее идеальным, и она с самым преувеличенным тщанием сохраняла малейшие особенности московского говора: никогда не скажет «английский», «по-английски», а непременно «аглицкий», «по-аглицки»; не скажет «первый», а «перьвый», с мягким знаком. Думаю, что она тяготилась своим положением у Савицких, особенно когда в ней отпала всякая надобность. Было у нее одно заветное утешение: выигрышный билет. Как только подходило время выигрышей, Настасья Николаевна приходила в ажиота-цию: она все ждала, что счастье ей улыбнется. Один раз приходит к чаю веселая и рассказывает, что видела чудный сон: явился какой-то старец и объявил, что она выиграет пятьсот тысяч рублей. Этому сну она крепко верила, но велико было разочарование, когда наступил розыгрыш и она ничего не получила. Счастье не улыбнулось. Бедная тетя Настенька, скучна и безрадостна была ее жизнь. А конец оказался такой, что стыдно за Лидию. Уже после смерти Андрея Павловича и Варвары Николаевны Лидия начала бешено ссориться с тетей Настенькой, тогда уже больной старухой, и прямо выгнала ее из дома. Не зн'аю, что было бы с беднягой, если бы ее не приютила старшая сестра, г-жа Ержмановская, богатая помещица. У нее она и умерла.
Насчет подобного нельзя было и вообразить себе — в то время, когда я гимназистом проводил там приятно время, в мирной семье, жившей под властным, но умным управлением Андрея Павловича. Хорошее было время, и хороший был он человек. Живо помню праздничные вечера на Рождество в их семье. У них не происходило никакого особенного торжества, но было обыкновенно человека три-четыре гостей из близких знакомых, подавали какое-нибудь угощение. Андрей Павлович умел, когда хотел, быть очень любезен и интересен в разговоре. Присутствие барышень прибавляло веселья, и эти вечера проходили очень уютно и задушевно.
Один раз молодежь вздумала устроить спиритический сеанс. Тогда это было в моде. Одна молодая классная дама возлагала особые надежды на меня, уверяя, что по моим глазам во мне видна большая «сенситивность». Полагаю, что я тогда был «сенситивен» только в отношении барышень и молодых дам. Как бы то ни было, из нашего сеанса ничего не вышло, кроме смеха и шуток. Андрей Павлович сидел в отдалении в кресле, очень задумчивый, и вдруг в перерыве наших занятий произнес: «Я бы знал, что обо всем этом думать, если бы не один случай в моей жизни…»
Все обратились к нему заинтересованные и просили рассказать, в чем дело. Он рассказал живо и интересно и произвел, по крайней мере на меня, большое впечатление. Случай произошел лет семь тому назад. Андрей Павлович был в Петербурге, бегая по всевозможным канцеляриям и особам, устраивая свои служебные дела в Керчи. Понятно, что, измученный дневной беготней, он возвращался к себе в гостиницу и бросался в кресло сколько-нибудь отдохнуть и успокоиться. Так было и на этот раз. Он растянулся в кресле и погрузился в какое-то дремотное полузабытье. Никаких мыслей не пробегало в его голове, как вдруг он вскочил как встрепанный. Он ощутил не то голос, не то мысль, он не умеет определить, но что-то такое вдруг сказало ему: «Твой сын умер!..» Андрей Павлович страшно любил своего первого сына, родившегося после четырех дочерей. Он оставил его в Керчи здоровым, и получаемые письма не сообщали ничего тревожного. На самом деле мальчик заболел, но Варвара Николаевна, чтобы не тревожить мужа, писала, что все обстоит благополучно. Таинственное сообщение о смерти сына было так живо, что Андрей Павлович записал день и час его и немедленно послал домой запрос, что случилось с мальчиком. Оказалось, что он умер как раз в тот момент, когда Андрей Павлович услыхал этот голос.
В то время наука еще ничего не знала об ощущениях и внушениях на расстоянии, но, конечно, происшествие с дядей должно и теперь считать одним из любопытнейших явлений этого рода.
Андрей Павлович иногда любил рассказать что-нибудь анекдо-тически-поучительное. Так, однажды среди гостей зашла речь о святости, о том, что достигший святости уже не боится смерти. «Да, — заметил дядя, — только вопрос: как узнать, что человек достиг святости?» И он рассказал из какой-то католической хроники повествование об одном таком монахе-старце, которого ученики его считали святым и просили заранее его молитв у Престола Божия, когда он скончается. «Дети мои, — говорил старец, — мы не можем при жизни знать, какова будет наша судьба по смерти». Они просили его настоятельно дать им знать, что будет по смерти с ним, и старец отвечал: «Об этом я могу умолить Господа». И вот когда настало время его кончины, он завещал не хоронить его до тех пор, пока он нс даст какого-либо загробного известия о себе. Итак, ученики молились у гроба и ждали, что будет. На седьмой день мертвый приподнялся из гроба и произнес: «A Deo justo adsum» («Предстал пред Праведным Богом»). На двадцатый день он снова приподнялся и заявил: «A Deo justo judicatussum» («Начался суд Праведного Бога»)… Ученики удвоили молитвы, но на сороковой день скончавшийся старец со скорбью возвестил: «A Deo justo samtus» («Праведный Бог осудил меня»), и его тело тотчас предалось тлению.
Не знаю, откуда Андрей Павлович начитался латинских хроник, но он нередко цитировал их, иногда и в забавных образчиках. Так, он рассказывал, что у какого-то средневекового путешественника по Польше есть такое глубокомысленное наблюдение: «In Parva Rossia hahentur homines, qui non jeresaint пес jenescunl, et jucantur chlopci» — это он видел, что у помещиков кличут «хлопец» и старых, и молодых, и заключал из этого, что это особая порода людей, не вырастающих и не стареющих. Уж не знаю, был ли такой путешественник или это просто польско-латинский анекдот.
Родственный круг Савицких скоро увеличился с поступлением в институт моей сестры и с прибытием в Керчь семьи Ткрютиных. Марья Павловна Тирютина была сестра Савицкого. Муж ее, Семен Дмитриевич, врач по профессии, перевелся в Керчь из Черного Яра, не помню, на какую должность. У них было две хорошенькие дочурки, Леля и Аня, настоящие херувимы. Сама Мария Павловна была еще очень красивая, пышная дама, хорошая хозяйка, как все Савицкие, веселая и очень вообще приятная особа. Семен Дмитриевич, родом белорус, тоже был красивый мужчина, с длинными усами на бритом лице, худощавый, энергический, смелый человек. Его отец в 1812 году был забран в армию Наполеона и ходил на Москву. Но Семен Дмитриевич был вполне уже русский и к Польше не питал никаких симпатий. Довольно образованный, он держал себя совершенно неверующим и не стеснялся говорить: «Ведь выдумали же бессеменное зачатие!» Однако это вольтерьянство было в значительной степени напускное. Однажды Мария Павловна в Керчи серьезно заболела и рисковала умереть. Семен Дмитриевич был в отчаянии. Он очень любил жену, да и перспектива остаться вдовцом с двумя маленькими девочками не могла не пугать. И вот'моя мама, бывшая в это время в Керчи, увидела, что он, ходя в волнении взад и вперед, время от времени выскакивает в соседнюю комнату и остается там несколько минут. Ее заинтересовало, что он там делает. Оказалось, он стоит перед образами и молится в каком-то исступлении: «Помилуй меня, Господи, не погуби. Ведь я погиб, если она умрет. Помоги, исцели. Ты не можешь, не должен довести меня до гибели… Пощади, исцели ее…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: