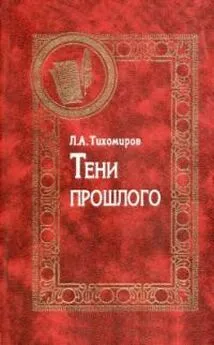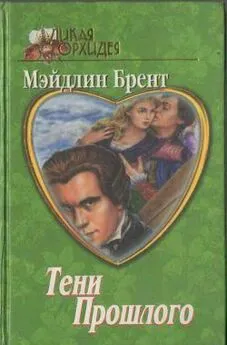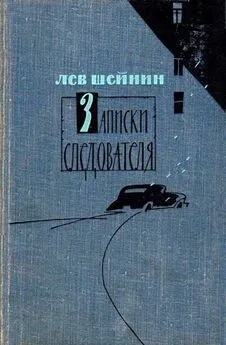Лев Тихомиров - Тени прошлого. Воспоминания
- Название:Тени прошлого. Воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство журнала «Москва»
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-89097-034-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Тихомиров - Тени прошлого. Воспоминания краткое содержание
Это воспоминания, написанные писателем-христианином, цель которого не сведение счетов со своими друзьями-противниками, со своим прошлым, а создание своего рода документального среза эпохи, ее духовных настроений и социальных стремлений.
В повествовании картины «семейной хроники» чередуются с сюжетами о русских и зарубежных общественных деятелях. Здесь революционеры Михайлов, Перовская, Халтурин, Плеханов; «тени прошлого» революционной и консервативной Франции; Владимир Соловьев, русские консерваторы К. Н. Леонтьев, П. Е. Астафьев, А. А. Киреев и другие.
Тени прошлого. Воспоминания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но в это время «странный человек» вышел из другой комнаты и, попрощавшись с некоторой досадой, ушел. Это был он же, мой человек в синих очках, Чарушин. Когда он вышел, Рагозин спрашивает:
— Вы не знаете его?
— Не знаю.
— Странный какой-то. Говорит, от Чайковского.
— Он и мне говорил, что от какого-то Чайковского.
Тут Рагозин объяснил мне, что Чайковский-то есть на свете, что это «столп», а только этого Чарушина он не знает и находит его похожим на шпиона.
Так мы расстались в беспокойстве, но скоро пришла ко мне Армфельд и сообщила с радостью о приезде Чарушина.
— Вы разве знаете его?
— Ну да, конечно, это из питерских, очень умный и энергичный человек.
16 Чака* 2695
Так дело объяснилось, и Чарушин вечером же виделся со мной у Армфельд, а затем пришел ко мне ночевать.
Мы с ним очень быстро подружились. Это был первый тип действительно живого революционера, мною виденный. Клячко и Цакни были какие-то тряпки, вялые, кислые, занимавшиеся радикальными делами как будто по обязанностям службы и как будто сами от этих дел ничего не ожидавшие. Это происходило отчасти оттого, что оба они были гораздо умнее и старше Чарушина и гораздо хуже его по натуре. Чарушин был неглуп, но главное — человек, способный к вере, человек с потребностью жить чем-нибудь широким. В «дело» свое верил искренно и отдавался ему всецело.
Он очень досадовал на Клячко и Цакни, что они до сих пор не сошлись со мной окончательно, и начал посвящать меня в радикальные дела. Тут я в первый раз услыхал, где, кто, как действует. Чарушин меня также побудил взяться за дела в Москве и помог в этом, сведя с разными лицами.
Так началась моя «радикальная» жизнь.
XI
Моя квартира в Долгоруковском была слишком тесна и неудобна для моей новой жизни, когда приходилось принимать много народа. Я переехал в дом Олениной, в Брюсов переулок, взял большую приличную комнату. Университетскую работу я совершенно забросил, перестал ходить на лекции, перестал читать дома. Собственно, я не решил бросить университет, вообще не думал о будущем, а думал только о своих настоящих делах, делах минуты. Эти «дела» были чрезвычайно неопределенны, хаотичны, без содержания и без последствий. Суть состояла в том, что в Москве ничего нс было создано, ничего нс делалось. А нужно было что-либо поставить на ноги. Я же не знал, что и как делать. Собственно, в это время, за отсутствием Клячко и Цакни и благодаря тому что я сошелся хорошо с чайковцами, я стал некоторым центром. Моя квартира была пунктом, которого не миновал ни один проезжий чайковец, ко мне же чайковцы направляли разных более или менее близких к ним лиц, проезжавших через Москву. Я стал знакомиться в Москве с революционно настроенным миром — «радикалами»; это брало много времени. Я завел сношения с рабочими. Сверх того, приходилось поддерживать книжное дело, и, сверх того, не было у близких лиц ни одного «дела», которое бы не дошло так или иначе до меня, хотя бы я ему решительно даже ничем не помогал. Кто занимался заговорами или политической агитацией, тот знает, сколь-
ко времени берет эта вечная, бесконечная сутолока, видимо бессодержательная и утомительная, но без которой, однако, «брожение» и «движение» прекратились бы. И потому-то элемент суетливый и в то же время не очень требовательный — как молодые люди и женщины — в высшей степени полезен при всякой агитации. Человеку серьезному не под силу эта бестолковая «работа», она ему надоедает своей ничтожностью. Молодые люди и женщины, особенно молодые женщины, напротив, удовлетворяются лучше всего именно этой бестолковой сутолокой.
Что мы делали в течение 1872/73 академического года?
Чарушин познакомил меня с только что возвратившимся из ссылки Николаем Михайловичем Аносовым. Бывший студент Петровской академии, он меня провел туда, а также дал указания-, как разыскать некоторых «распропагандированных» в нечаевские времена рабочих. К рабочим я очень стремился. В это именно время (1872 год) среди революционной молодежи в Санкт-Петербурге особенно разгорелся спор о способах действия. Одни, которых называли образованниками, считали необходимым развивать и вырабатывать людей в образованном классе; другие, народники (слово, тогда в первый раз сочиненное), говорили, что выработку и пропаганду следует перенести в народ, в рабочую среду. Я был за второе мнение. Тогда же долгушинцы уже стали мечтать о бунте в народе и презрительно называть чайковцев «книжниками». Я в то время стоял еще за выработку лиц из рабочих, хотя вообще о рабочих понятия не имел. Чайковцы, скорее «образованники», как бы поддались течению и повели пропаганду между рабочими и благодаря своей основательности и средствам в короткое время достигли сравнительно огромных успехов, затмив все другие кружки.
У нас в Москве как-то совсем «людей не было», не с кем было за что-либо взяться. Старые, вроде Рагозина, решительно отлынивали. «Лео», еще недавно изображавший из себя Рахметова, аскета и фанатика, женившись, сразу изменился. Трусил он ужасно, и жена его, очевидно, была достаточно умна, чтобы постоять за свой семейный очаг и не позволить отбить у нее ее краснощекого красавца мужа. Наших барышень она живо вытеснила от себя. Рагозин углубился в экзамены и ничего не хотел делать.
Скоро — кажется, за границей — чайковцы отпечатали первую нелегальную брошюру — «Песенник»: десятка полтора запрещенных стихотворений, в конце концов, глупых, но опасных, потому что оскорбительных для Государя, для религии, вообще для властей. Эту брошюру питерцы доставили уже мне, и я ее понес Рагозину, но Лев Федорович посмотрел и взял только один экземпляр (кото-!«
рый, наверное, уничтожил). «Знаете, — сказал он, — ответственность за это большая, а толку что? Ведь хоть бы один рабочий прочел. Ни один даже не прочтет».
Тут же, в 1872-м или в начале 1873 года, к нам в Москву явилась первая весть об анархии. Это учение было свежей новостью. Рагозин ему ужасно обрадовался. Так как политическое отношение ничего не значит, то бессмысленно действовать против правительства — такое толкование он дал новой доктрине. Вообще, этот чело век отлынивал самым решительным образом, хотя сначала, конечно, не по убеждению, а просто из нежелания ломать себе шею.
Итак, хотя с ним не ссорились, но оставили его в покое. Прочие старики даже и не подходили к новым «деятелям*, они, самое большее, толкались около кухмистерской. Они уже держали экзамены или даже были докторантами. О них, их завербовке, никто даже не помышлял.
Единственное исключение составлял Аносов. Мы с ним тоже очень скоро сошлись, и это из наличных московских радикалов был единственный, к которому я внутренне относился как к равному. Только что возвратившийся из ссылки (административной), он немедленно стал заниматься «делом». Это был молодой человек из купцов, чрезвычайно приличный, чистенький, опрятно одетый, блондин, с прекрасным цветом лица, чуть заметными усиками и очень правильными чертами лица. Это красивое лицо было замечательно бесстрастно. Аносов редко улыбался. И кажется, никогда громко не смеялся, не сердился, не радовался, не был печален. Хотя он ничего заметного не сделал и впоследствии даже, кажется, совершенно отстал от движения, но по натуре это был, несомненно, типичный революционер. Человек узкий, односторонний, он не отвлекался от своей идеи ничем «посторонним». Страсть в нем нс говорила, вопросов для него не существовхю. Вера его была ясна, несомненна и холодна. Увлекаться в ней было нечем, как нечем увлекаться в том, что дважды два — четыре. Слишком просто для увлечения. Сомневаться тоже было не в чем. И он вел свое «дело» с аккуратностью, прилежанием и холодностью чиновника. По тогдашней манере думать образами французской революции, я называл для себя Аносова «робеспьеровской натурой», и, соблюдая масштаб сравнения, он ею был — с той же ограниченностью, неподкупностью и неуклонностью.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: