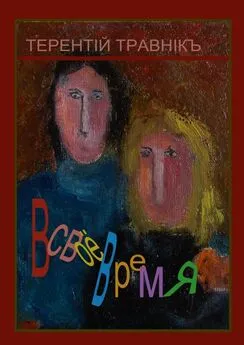Игорь Карпусь - Своё и чужое: дневник современника
- Название:Своё и чужое: дневник современника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1999
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Карпусь - Своё и чужое: дневник современника краткое содержание
Своё и чужое: дневник современника - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Дивлюсь, как вырос кинематограф. Он заполняет литературную пустоту. До сих пор отчётливо помню «Трое», предсмертную улыбку Карениной. Чудо! Написал, но постеснялся отправить письмо Самойловой:
«Давно порывался написать Вам и теперь, снова увидев Вас в образе Анны, решаюсь это сделать. Промолчать мне трудно. Может быть, впервые в Вашем лице я обрёл зримого единомышленника и друга. Порывистое, прямодушное, человечное сердце Вашей Анны бьётся так горячо к сильно, что не может не вызвать ответного движения, многим становится не по себе».
Пробежал мемуары Жукова, книгу века, как её величают. Расчётлив не в меру, благоразумно умолчав не о войне. Видно, что автора крепко обидели, и он обиду' хоронит в объективизме повествования. Помню, два года назад читал Писарева, как он изумил и обрадовал. Нескончаемый поток ума и отваги, независимости и дерзости. Он сказал мне: не бойся, не укрощай себя, верь себе. «Три минуты молчания» Владимова написаны с писаревской смелостью. Наши охранители поспешили распять его без гвоздей — чернилами.
18 августа. Рядом со мной живёт мужик 48 лет — забитое, жалкое, почти неграмотное существо. На лице всегда печать растерянности и недоумения, временами прорывается озлобление и рядом с этим — безумная, раздражающая меня вера в свою судьбу, надежда изобрести что-то небывалое. Перетащил, надсаживаясь, со старой квартиры кучу инструментов, кипы старых журналов и расхожих пособий, листает их на досуге и лелеет мечту отомстить людям, заявить о себе. Только пять лет жил в семье, а то скитался, был чернорабочим. Никто не обращал на него внимания, простодушная странность и уродливое достоинство отпугивали. Не могу видеть и слышать его, хотя он добр и мягок. Лишь временами он догадывается, как несправедливо обошлась с ним жизнь.
В «Комсомолке» исповедь одного рабочего. Все его попытки сделать что-либо доброе для соседей натыкались на их крикливую ненависть и равнодушие. Человек растерялся и с горечью спрашивает: может быть, я не так делаю или не ко времени? О, мне хорошо знакомы эти самодовольные типы, они, не моргнув глазом, проходят невредимыми через все поветрия. Им постоянно внушают и они крепко уверовали в то, что являются хозяевами страны, и живут тяжело, разгульно, скудоумно.
Как мы будем жить дальше? Тревожит, а правильного ответа найти не могу. Понимаю, что существующая сумятица есть следствие исчезновения народа как целостного общества со своей духовной и трудовой жизнью. Ни о каком народе в прежнем, глубинном смысле этого понятия и речи быть не может. Есть аморфная масса, в ней преобладают черты зависимости и полное отсутствие достоинства. Из массы должен сформироваться новый народ, но это уже даль, в которую и заглянуть-то страшно.
8 сентября. Наше сытое общество посмеивается над Раскольниковым, его терзания и стоны кажутся надуманными и театральными. Пожимают плечами и, наверно, вспоминают: всех обиженных не утешишь, голодных — не накормишь. А Раскольников — сама жизнь с её рытвинами и ухабами, неустроенностью и душераздирающим отчаянием. Он нашёл в себе место для преступного и возвышенного и погиб, когда попытался их примирить. Нас всех питает одна святая страсть — быть человеком, и нет места упрёкам, если приходится платить слишком дорого.
У Герцена хорошо об одиночестве. Но зря он за Базарова разгневался на Писарева. Тот имел в виду типичных людей, а Герцен и его круг к ним не относятся. Старик ревниво оберегал свое дело и временами сомневался в потомках. Напрасно.
Сказки на английском — зелёное яблоко, одна фабула. Вот что есть язык — история, быт, поэзия, разум, одним словом — всё.
16 сентября. Опять эти восхитительные ночи! Внизу, в долине, скопище крикливых огней, вверху — скудный блеск звёзд и победительный, пластичный, всепроникающий свет Луны. Пользуюсь холерным затишьем и блаженствую у моря. Написал ей письмо.
20 сентября. Ничего нет презренней человека, не испытывающего любви и желающего жениться. Пока встречал людей, которые обзаводились семьей только потому, что время не терпит, а потом «можно и мужа полюбить». Одно из двух: либо любовь переродилась, либо доступна весьма немногим.
21 сентября. Студент-медик сокрушался: — Работаем дни напролёт, а кормят впроголодь, на 80 копеек в сутки. Обещали заплатить вдвойне, потом — как обычно и, наконец, сослались на то, что «нам после войны было труднее».
Юбилейное издание Фета. Его жизнь — мне утешение.
22 сентября. Моё тело живёт для головы, оно никого не радовало, это молодое загорелое тело. У некоторых тела — совершенства, я любуюсь ими со стороны, как античными статуями. Осознание некоторой ущербности, зависть к красивым животным, красивым и нередко счастливым. А я стою в отдалении и жду своего часа, который может не наступить.
23 сентября. День студёный и блеклый. Солнце тусклым пятном, лес побурел, но держится. Редко-редко вспорхнёт светлой желтизной шапка вяза, и снова глухие краски рыхлого лесного покрова. Всё исхожено да истоптано, корчуют и валят, понатыкали дачек. Хозяйка на меня косится: я — книгочей, а она, как жук-навозник, без устали пристраивает, ухичивает, копает, укладывает. От меня ей проку мало, одна квартплата, и потому я — никчемный.
Что ни дом, то гнёздышко, которое плетут и утепляют всю жизнь с завидным усердием. Если бы каждый положил на себя хоть 1/10 этих трудов! А газетки всё бьют из пушек по воробьям, только заштопают в одном месте, как в другом прореха. Что поделаешь, масса-то передовая, а вот единицы портят картину. Тон, тон надобно менять, чтобы разворошить эту советскую массу.
Запоем перечитал Щедрина. «История одного города» — наш скотный двор с послушной скотиной и болванами-скотниками. За границей двор почище, а в остальном мы на равных.
24 сентября. Чтение «Головлёвых» и «Пошехонской старины» — неизъяснимое наслаждение. Нравится погружаться в тину усадебного быта, прощупывать его день за днём, дышать его плотным воздухом. Слов нет, смрадно и гадко, но об этом не думаешь. Для Толстого «Старина» означала одно, для меня — другое. Так никто не писал — осознанно — художественно. У других крепостничество было фоном, у Щедрина — обнажённый кусок жизни со всеми его капиллярами и запахами. Но мне-то, мне что до этого? То ли притягательный и уродливый уют, тепло своего угла, значительность и ничтожность домашних дел — суеты, чему отдаются все, кто полностью, кто частично. Это тыльная сторона, без спасительных покровов сладкоречия, и двигатель, и цель, и награда. Мода на Толстого и Достоевского. Почему не на Щедрина? Он обыкновеннее и, значит, современней. С ним ясно видишь, какие силы надо иметь, чтобы выйти на простор и не столько заразиться, сколько не обмануться.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: