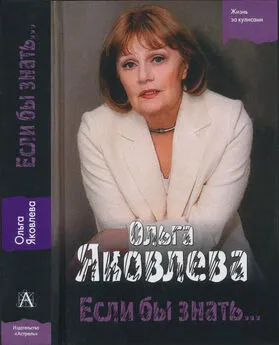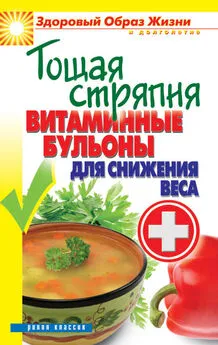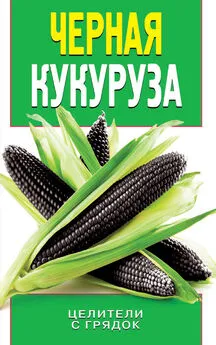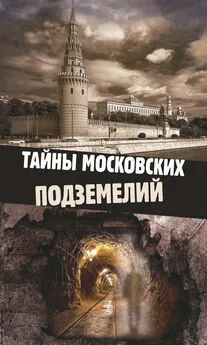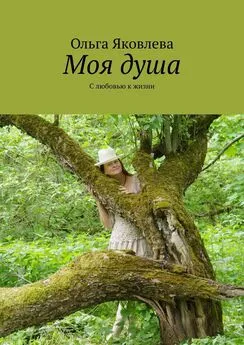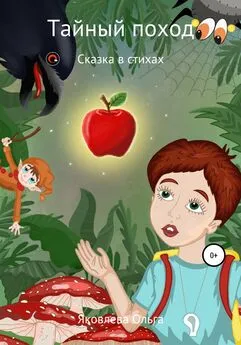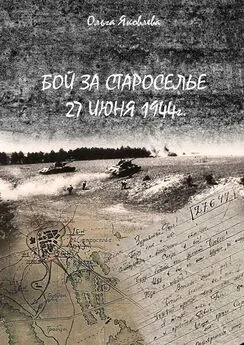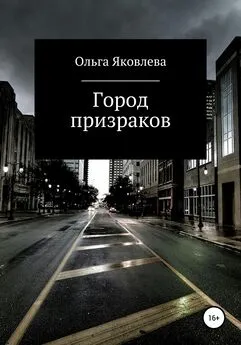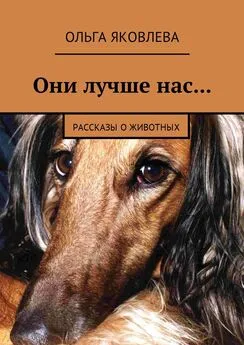Ольга Яковлева - Если бы знать...
- Название:Если бы знать...
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ACT, Астрель
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-17-021053-1, 5-271-07515-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Яковлева - Если бы знать... краткое содержание
Воспоминания? Нет. Исследование? Тем более. Чувство вины? Возможно. Разве не испытывают чувство вины те, кто потерял близких и продолжает жить? Я продолжаю жить, хотя жизнь моя ушла вместе с ними.
А может быть, все проще. Я хочу отдать дань тем, кому я была попутчицей в жизни. Это не они уходят — это мы умираем.
Если бы знать... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Чехова он очень любил, как его прозу, так и пьесы. Ставить Чехова было для него всегда наслаждением. Счастьем был сам процесс работы. Он чувствовал этого автора как человека, который никогда его не подведет. Трижды — в России и за рубежом — поставил «Вишневый сад», и уже был готов замысел четвертой постановки.
Его вкусы и привязанности в классике отмечены постоянством. Он трижды ставил Мольера и трижды — спектакль «О господине де Мольере» Булгакова. Трижды ставил Шекспира, задумывал четвертую постановку — «Бурю» (на театральной сцене). Обдумывал «Гамлета».
Очень любил Хемингуэя. Наверное, потому что сам был таким же простым и мужественным.
Шостаковича — очень любил. Раньше многих не просто понял гениальность этого композитора, но сделал его музыку своей ежедневной музыкой. Одним из самых счастливых дней его жизни был день, когда он получил письмо от Шостаковича по поводу спектакля «Три сестры» в 1968 году. Крупные художники и должны протягивать один другому руку, давая понять, что они слышат друг друга.
Он хотел познакомиться с Феллини, который был для него критерием в искусстве, кумиром. Так и не успел познакомиться со Стрелером. Хорошо знал его книги, статьи, любил его спектакли, часто о них рассказывал. Незадолго до смерти зимой он был в Париже, но Стрелер болел. Казалось, не страшно — встретятся в феврале. Не встретились…
Он так и не познакомился с Уильямсом, который понимал и чувствовал театр близко к тому, как чувствовал его Эфрос.
Режиссура — профессия очень жесткая, строгая. Но, хотя Анатолий Васильевич был очень требовательным человеком, я могу сказать, что он был самым нежным режиссером в наше жесткое время.
Характер у него был не простой, но не тяжелый. Чувство справедливости развито до крайности. Актеров любил многих, но назначал на роль только в соответствии с замыслом. Ко мне относился с нежностью, но иной раз такие делал замечания, что до конца жизни буду помнить.
Когда-то я наивно была уверена, что любой может делать то же, что Эфрос. И даже должен. Я не работала тогда с другими режиссерами, не с кем было сравнивать. Только потом поняла разницу. Не потеряв, не оценишь…
Анатолий Васильевич был режиссером от Бога. Таких теперь (да и всегда) мало. Придут и наблюдают, наблюдают. А где режиссерская трактовка, оригинальность замысла? Наконец, увлеченность замыслом — он умел заразить актеров своим видением. Играючи объяснял сложнейшие ходы, и актеры устремлялись к нему всей душой, как дети… Нет, после Эфроса я пока не встретила своего режиссера и вряд ли встречу: слишком «отравлена» его талантом.
Работа с ним была и счастьем, и мукой. Счастьем — потому что был критерий, высшая мера той художественной истины, к которой он стремился.
Но обыкновенные люди, как правило, не в силах соответствовать такому уровню одержимости. А он верил, что другие такие же, как он сам. Иногда, правда, это приводило к тому, что средний актер оказывался очень талантливым. Эфрос извлекал из него то, о чем тот и сам не подозревал.
Я не всегда соглашалась с его предложениями и порой сопротивлялась. И только позднее, когда идея входила вовнутрь и осваивалась на эмоциональном уровне, я понимала, насколько знал и чувствовал Эфрос женскую душу. К сожалению, все эти женщины и девушки живут только во мне, может, еще в чьей-то памяти, но не на сценах театров. У него был свой мир, но не было своего художественного дома, своего художественного пристанища.
Эфрос терпеть не мог категоричности в оценке произведений искусства и, в частности, актерской и режиссерской работы. Даже разносы свои начинал примерно так «Ребята, мне кажется, что сегодня вы…» — и так далее.
Он постоянно поддерживал актеров морально. Придет за кулисы перед премьерой, шутит, подбадривает, успокаивает. Я трясусь перед выходом, пристаю к нему: «Анатолий Васильевич! Ну что играть-то мне? Про что?» — «Отстаньте вы, Оля, — говорит, — сами все знаете. Сыграете, как всегда, прекрасно! С Богом!»
Часто находил у себя режиссерские промахи, но изредка приходил после спектакля за кулисы притихшим, просветленным. «Ну что? Как?» — спрашиваем. «Ничего, ничего. Нормально. Я даже всплакнул сегодня». Да, с ним случалось такое. «Над вымыслом слезами обольюсь». Он объяснял свои скупые слезы восторгом перед мыслью и тончайшей актерской игрой, способной передать эту мысль.
И еще он говорил, что его давно уже волнует только Добро. Красивым человеческим поступком и благородством способен был восхищаться до слез.
Кому-то может показаться, что я преувеличиваю, идеализирую. Людям, которые не верят в идеальное, возможно, трудно меня понять.
Анатолий Васильевич позволял актерам импровизировать — но «строго в квадрате». Он вынашивал идею спектакля задолго до встречи с актерами. К этому моменту он уже знал, что ему нужно от актера. Он создавал условия для импровизации, чтобы высвободить все, что заложено в актере. Но вместе с этим потихоньку направлял, подталкивал и в результате добивался выполнения своего, довольно жесткого рисунка.
Это не значит, что нельзя было добавлять свои штрихи к портрету, но только в пределах заданного смысла. Причем, наблюдая Эфроса многие годы, я заметила, что в его отношении к импровизации произошла эволюция. В молодые годы он давал актеру больше свободы, но со временем импровизация перестала ему казаться пределом мечтаний. Захотелось большего накала мысли и более острой формы. Тончайшая психологическая вибрация актерской игры, острая, уникальная для каждого спектакля форма и высокий накал мысли — вот то, к чему последние годы стремился Эфрос.
Анатолий Васильевич никогда не говорил: «мой актер», «не мой». Но ощущение «своих» актеров было всегда. Для него «свой» актер — тот, кто умел точно выразить его замысел. Он говорил, что «надо придумать роль для Дурова или для Волкова». «Своих» было очень много. В том числе Калягин — во МХАТе, Высоцкий — на Таганке.
Но специально ни для кого он пьесы не брал. В том числе и для меня. Это только со стороны так кому-то кажется. Если роли раскладывались на труппу — тогда пьеса бралась. Вот какую кому роль давать — это он уже решал сам.
Он знал про нас, про актеров, то, чего не знали мы сами. Кому бы пришло в голову давать Волкову роль Отелло или Дон Жуана? Но это соответствовало его замыслу, нужному повороту пьесы. И все открывалось заново: и актер, и роль, и пьеса.
Эфрос заражал актеров чем-то таким, без чего они не могли дальше существовать. Им становилось скучно без него, их начинала мучить ностальгия. Они заболевали Эфросом, им невозможно было не заболеть. Как будто человеку наркотик впрыскивали…
Это при том, что он был очень требовательным. Когда я была уже на Таганке, Анатолий Васильевич говорил: «Оля — бодрый, крепкий, здоровый тон! Почти даже без нюансов — но: бодрый, крепкий, здоровый тон». Он добивался крупности, масштабности. Не позволял мне уходить в какие-то привычные… ну что ли детские тона, инфантильные. С каждой новой ролью он требовал нового обертона. Во всем. В пластике, в голосе, в характере. С каждой новой ролью.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: