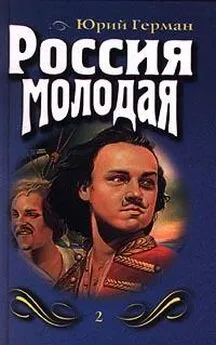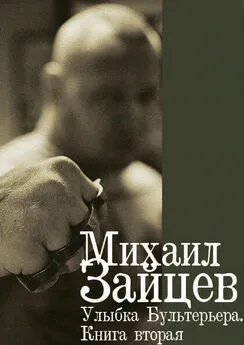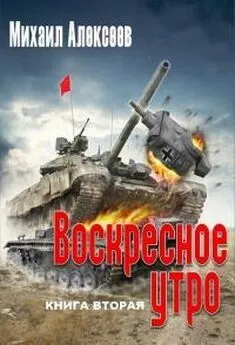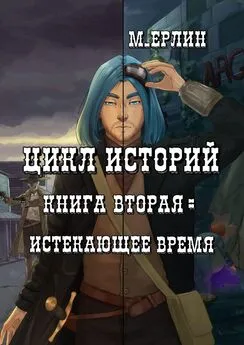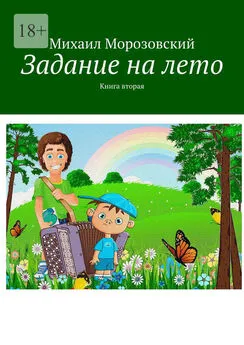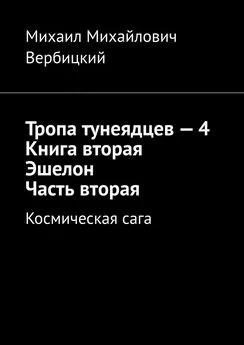Михаил Герман - Воспоминания о XX веке. Книга вторая. Незавершенное время. Imparfait
- Название:Воспоминания о XX веке. Книга вторая. Незавершенное время. Imparfait
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Азбука, Азбука-Аттикус
- Год:2018
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-389-15091-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Герман - Воспоминания о XX веке. Книга вторая. Незавершенное время. Imparfait краткое содержание
Это бескомпромиссно честный рассказ о времени: о том, каким образом удавалось противостоять давлению государственной машины (с неизбежными на этом пути компромиссами и горькими поражениями), справляться с обыденным советским абсурдом, как получалось сохранять порядочность, чувство собственного достоинства, способность радоваться мелочам и замечать смешное, мечтать и добиваться осуществления задуманного.
Богато иллюстрированная книга будет интересна самому широкому кругу читателей.
Воспоминания о XX веке. Книга вторая. Незавершенное время. Imparfait - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Трагикомическую суть дефицита не исчерпал и великий Райкин. Много позже я прочел умную, добрую и жесткую книгу «Русские» Хедрика Смита, журналиста, в шестидесятые годы жившего в Москве. Советские люди, написано у Смита, не против распределения: «Они не говорят, что система неправильна. Они хотят исключений для себя лично».
Тогда еще мы не понимали, что в нашей стране, по сути дела, деньги не существуют. Так — бумажки, за которые, быть может, выдадут что-нибудь, а может, и нет. Когда в начале девяностых рухнула наша финансовая система и люди, всю жизнь копившие деньги, потеряли сбережения, мало кто мог найти в себе мужество и здравый смысл, чтобы понять: в сберкассах лежали фиктивные вклады, фантомные деньги, об их бессилии трудно было догадаться в пору тотального дефицита, но оно проявилось сразу с наступлением товарного изобилия.
А тогда деньги заменялись блатом. Везде. Существовал блатной телефон для чиновников, по которому такси выезжало немедленно! Такси ведь тогда, дешевое в сущности, оставалось чаще всего недосягаемым. Неподвижные тусклые очереди, лютые и надменные водители — «в парк», «беру заказ», просто наглое «нет, не по пути», подсадки по несколько человек в одну машину, при вызове по телефону — хамство диспетчеров и «в течение двух часов» (только весной 1977-го, когда такси внезапно подорожало вдвое, на добрых полгода таксисты научились улыбаться и перестали спешить в парк).
Необходимость пышно принимать и угощать так называемых нужников — людей, от которых нечто зависело, — определяла многое в жизни и сильно раздула миф о национальном гостеприимстве. «Его надо принять» — эта фраза звучала, поверьте, и там, где жили люди достаточно возвышенные. Денежные взятки на обыденном уровне не были сильно развиты — деньги значили мало, давать их стыдились, не умели и боялись. А вот обмениваться «уважением» и услугами — характерным бартером социализма — пожалуйте! Водопроводчик не довольствовался деньгами, нужна была бутылка, и широкая душа пролетария охотно делилась с хозяином водкой во имя оказываемого уважения — надо было непременно выпить вместе. «Принимали» полезных людей, смущенно говорили любезности людям из торговли. А уж как принимали иностранцев! Зажмурив глаза от страха или робко доложив по начальству о грядущем свидании (напомню, в советские времена существовал закон — в отделах кадров с ним знакомили всех поголовно, — согласно которому каждый, имевший контакт с иностранцем, был обязан сообщать об этом своему руководству), раскидывали настоящую скатерть-самобранку. Любыми способами добывались (использовался весь накопленный блат!) дефицитные продукты, желательно и икра. Ее можно было, имея деньги, надлежащую самоуверенность и развязность, купить в ресторане, предпочтительно через заднюю дверь. Что-то приносилось с рынка, но главным образом брали изобилием. Иностранцы, привыкшие к двум-трем сменам скромных и вкусных блюд, робели перед столом с непременными винегретами, икрой, колбасами, пирогами и пирожками — «а вот еще попробуйте!», борщом («о, борстш!»), блинами («о, блини!»), разнообразными водками и коньяками, подаваемыми одновременно с шампанским под икру и селедку, а то и вкупе с домашней наливочкой.
И преклонных лет профессор, и люди совсем уж неимущие равно были озабочены налаживанием личных «зарубежных связей» — а вдруг пригласят? И выкладывались, принимая иностранцев, которые в своей отчизне не значили решительно ничего. Обласканный гость уезжал с убеждением, что все русские живут замечательно и невероятно гостеприимны, а сам начинал себя чувствовать в Союзе настоящим ВИПом, что вызвало со временем тотальную надменность и комплекс этического колониализма. Были, впрочем, и другие иностранцы — обычно прокоммунистического толка, которые почитали основным своим долгом объяснять нам, как у нас хорошо. Главным образом они восхищались ничтожной квартирной платой и бесплатным здравоохранением. Понимать, что у нас мало кто на квартиру может рассчитывать, что многие живут и умрут в коммуналках, что здравоохранение убого и пронизано взятками, а врачи получают свою мизерную зарплату из нашей, тоже мизерной, они не хотели.
«Вещизма» на низовом уровне я отведал сполна. Существовал такой «джентльменский набор» франтоватого гуманитария средней руки, не дававший мне покоя. Он состоял из китайской авторучки, кожаной папки на молнии вместо портфеля, электрической бритвы «Харьков», нейлоновых рубашек и плаща-болоньи. Ручку можно было купить в магазине. Папку и рубашку подарил всесильный тесть. Бритву я раздобыл после долгих и старательных поисков.
А плащ-болонья так и не достался мне — его покупали только из-под полы в комиссионных, да и стоил он неприлично дорого! Был он больше чем модой — эпидемией, мечтой, униформой художественной знати. Шелковисто-синтетические, необычных оттенков: черно-лазурные, темно-коричневые с зеленоватым отблеском, а угольно-серые — со стальным, дивного и простого покроя, они шуршали и переливались, утверждая высокое положение и «стильность» владельцев. На Западе они стоили гроши и выпускались исключительно для защиты от дождя. У нас же болоньи, настойчиво носившиеся в любую погоду, трескались, портились и выглядели, вероятно, нелепо. Но мы — мы жили по собственным кодам элегантности!
Мы давно уже привыкли жить в мире плохих, скверно сделанных и некрасивых вещей (у нас умели делать только штучные, эпохальные предметы — спутники, например, но не машины, телевизоры или даже кастрюли), что, в сущности, было унизительно. Как бы хорошо человек ни работал, купить он мог лишь барахло и — пусть подсознательно — ощущал: его старательный и тяжелый труд оплачивается отбросами, вторым сортом. Потому что и так сойдет, хорошее — для номенклатуры, для блатных, своих…

Приемник «ВЭФ». 1960
Совершенные же фанатики «красивой жизни», замученные мечтами, впадали в полное затмение. Один мой вполне достойный коллега угостил однажды гостей «Столичной» водкой с еловыми шишками, полагая, что это без пяти минут джин. Над этим нельзя смеяться, да и драматизировать «происшествие» не стоит. Просто одно из тысячи мелких свидетельств обыденных развращающих унижений, вроде никелированных нашлепок от «мерседеса» на капоте «запорожца», что было тогда весьма модно.
Меня хватило лишь на суетливую замену большой и уютной, с зеленым огоньком индикатора и ласково мерцающей шкалой радиолы «Сакта» на унифицированный модный транзистор «ВЭФ».
Венец советского дендизма, до которого я тоже так и не возвысился, — замшевые и кожаные куртки. Особенно они вошли в моду в начале 1970-х, и тогда сформировался классический «пакет», привозимый экономившими на всем счастливчиками из-за границы: замшевый пиджак (или дубленка), кассетный магнитофон и карманный томик Солженицына. Кожаные или замшевые куртки и пиджаки (за границей носимые обычно лишь на уик-энд) стали непременным дресс-кодом (тогда это слово еще не вошло в обычай) советской «творческой номенклатуры». Они заменяли костюмы, считались более модным и элегантным нарядом. Не помню ни одного режиссера или актера на экране телевизора без этой униформы советского успеха.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: