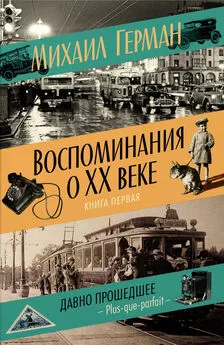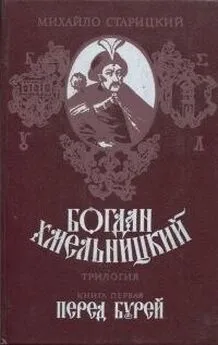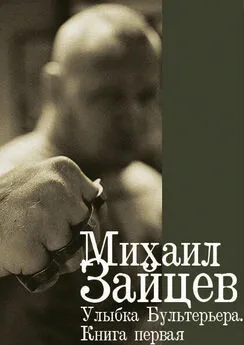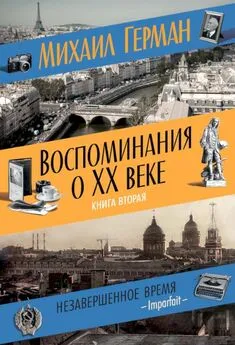Михаил Герман - Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait
- Название:Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Азбука, Азбука-Аттикус
- Год:2018
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-389-14212-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Герман - Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait краткое содержание
Это бескомпромиссно честный рассказ о времени: о том, каким образом удавалось противостоять давлению государственной машины (с неизбежными на этом пути компромиссами и горькими поражениями), справляться с обыденным советским абсурдом, как получалось сохранять порядочность, чувство собственного достоинства, способность радоваться мелочам и замечать смешное, мечтать и добиваться осуществления задуманного.
Богато иллюстрированная книга будет интересна самому широкому кругу читателей.
Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Пока мама и Павел Николаевич предавались серьезным беседам и воспоминаниям, я разглядывал кабинет, и душа моя полнилась несказанным восторгом. Автомобиль был единственной материальной ценностью, привезенной Лукницким с войны, остальное было скорее игрушечным. На книжных полках выстроились взводы и роты восхитительных оловянных солдатиков в старинных мундирах, а на стене висели жандармская сабля и настоящая шпага, обретенная чуть ли не в Шёнбрунне. Весь вечер я осторожно, чтобы не обращать на себя внимания, возился со шпагой, то вытаскивая ее из ножен, то просто осязая тяжелый, изысканного рисунка эфес, то просто любуясь ею: я ведь в первый раз видел шпагу. Настоящую.
Машина была в ремонте, и вернулись мы на трамвае. Шпагу же помню по сию пору, даже холодную тяжесть эфеса в моей жадной детской ладони.
Главным для меня событием в Ленинграде стало возвращение в театр.
Кира Николаевна теперь работала в музее Малого оперного. Через несколько дней после возвращения я сидел в ложе Ленсовета (в первый и последний раз: наверное, даже Кире Николаевне было непросто раздобыть туда пропуск) и невероятно этим гордился. На мне был светло-коричневый костюм-тройка с длинными (наконец-то!) брюками — мне он достался из посылок, приходивших из США в СССР, мама называла его «праздничный костюм Тома Сойера». Впервые в театре, в длинных брюках, впервые — один. Давали «Тщетную предосторожность» — балет без принцев и фей, но все же из заграничной, французской жизни. Разве в таком возрасте смотрят на танцы, слушают музыку? Смотрел, как на диво, на восхитительные сказочные костюмы, на останавливавшихся совсем рядом, тяжело дышавших, вспотевших и вместе таинственных актеров, застенчиво и пылко любовался прекрасными плечами балерин, ждал развития сюжета, антрактов, когда можно будет пойти в буфет и купить до войны не слишком почитаемые, а тогда необычайно вкусные и довольно дорогие, но все же доступные отчасти (если не более двух) конфеты «Раковые шейки» и выпить замечательной послевоенной ленинградской газированной воды.
Ах, какая была тогда газировка! Какие там автоматы, какие нынешние изыски, коктейли! Кто не пил той воды сороковых, не знает счастья. Во-первых, можно было купить разное количество сиропа — на двадцать, сорок копеек, а при склонности к сладкому, мне в высокой мере свойственной, и на целый рубль, что было вполне доступной роскошью, — пирожное стоило рублей сорок. Во-вторых, в хороших местах (такие бывали, особенно славилось заведение «Соки-воды» у кино «Колизей») был ошеломляющий выбор сиропов: на никелированной вертушке держалось штук восемь стеклянных конических колб, в то время как в обычных местах они были традиционные цилиндрические и числом не более трех. Все плоды и ягоды — лесные и садовые, и еще душистая до приторности, отдающая парфюмерией мутноватая крем-сода.

Кадр из фильма «Подкидыш». 1939
С того памятного посещения Малого оперного я особенно нежно полюбил его удивительный оранжево-серебряный зал, в котором так часто бывал в первый послевоенный сезон, фойе с высокими зеркалами, даже особый его запах — праздничный и тревожно-нежный. А тогда, на «Тщетной предосторожности», было множество нарядных детей (утренник), веселое солнце ранней осени за высокими окнами фойе, сквер на площади, трамвайное кольцо — да-да, кольцевала там в те годы «двадцатка», и по улице Бродского (Михайловской) ходил трамвай номер пять, а на Невском трамвайных маршрутов было добрых полдюжины.
Через несколько дней здесь же, в Малом оперном, я узнал о капитуляции Японии. Перед спектаклем вышел на сцену некто важный и сообщил зрителям о победе. Оркестр сыграл гимн, все стояли — завершилась война, и уже окончательно…
Позже, сумеречным октябрем, на эту же площадь, на мокрые трамвайные крыши я подолгу смотрел из окон 199-й школы (нынешней гимназии при Русском музее), куда со страхом, как на каторгу, ходил с 1 сентября 1945 года. Смотрел с великой осенней тоской, тоской диккенсовского приютского сироты. Сквозь черные осенние деревья виднелся Малый оперный, я мечтал, как пойду туда в воскресенье, на что угодно, лишь бы в театр, или хотя бы просто сесть в трамвай и — подальше от уроков, от обязательности, от странно жестоких учителей и одичавших в войну соучеников. Школа и в самом деле была каторгой, темным страхом. Над школой шефствовал Институт Лесгафта, нам об этом напоминали постоянно, как сиротам, из милости живущим у богатых родственников. Тоже какая-то диккенсовская ситуация.
И к тому же — полная бездомность. Довоенную «жилплощадь» нам все еще не удавалось получить, и от Киры Николаевны мы перебрались к очень дальним тетушкиным родственникам, жили там тоже словно бы из милости, на чемоданах. Единственно, район был тот же — угол Толмачева и Ракова (Караванной и Итальянской). Темная лестница, где постоянно тлела и воняла проводка, грозя пожаром (их я панически боялся с эвакуации, с тех самых случаев, когда вспыхивала сажа в трубах). Там я мучительно готовил уроки, страстно мечтая заболеть и не пойти в школу, — мама иногда позволяла сачкануть, и не было дней счастливее.
Мечтой были выходные.
Я жил одиноко, видеться с одноклассниками вне школы мне и в голову не приходило. Мои эвакуационные сверстники уже не были мне товарищами — далеко, а главное, иначе жили. Я пришел на Тверскую, в гости к тому самому мальчику, в которого был почти влюблен, когда мы жили в Чёрной. У него была своя отдельная (!) комната. Он настойчиво демонстрировал подаренные отцом трофейные роскошества — часы (часы у шестиклассника, тогда это было похлеще, чем нынче машина!), «Лейку», еще что-то мучительно недоступное. Я очень завидовал и больше к былому объекту своих воздыханий не пошел. Другие мои приятели по эвакуации вернулись в «писательскую надстройку», и несколько встреч с ними радости мне не принесли.
Так что развлечения у меня были только светские.
Если не театр, то кино.
Все лето на Невском в «Авроре» шел один и тот же советский фильм «Иван Никулин — русский матрос» Игоря Савченко с Иваном Переверзевым. Сегодня, так сказать, в «исторической перспективе» репертуар в кинотеатрах кажется немыслимо случайным, эклектичным. Власти еще не взялись за «репертуарную политику». В начале 1945-го вышла первая серия эйзенштейновского «Ивана Грозного» — она получила Сталинскую премию, а вторую положили на полку. Инерционная пафосная героика рядом с незамысловатыми комедиями, вроде опереточного фильма «Аршин мал алан», где молодой красавчик Бейбутов («Ах, он такой удивительный!» — шептались школьницы в кино у меня за спиной) распевал нехитрые куплеты, с консервативными экранизациями («Без вины виноватые» с Тарасовой), с «жюль-верновской» традицией («Пятнадцатилетний капитан»). В кинотеатре «Родина» (там, где нынешний Дом кино) показывали английскую картину «Маленький погонщик слонов» (1937), где играл тот же мальчик, что в «Багдадском воре», — индийский актер Сабу. На детские сеансы стояли даже не очереди — толпы озлобленных послевоенных мальчишек (девочки ходили редко и только с родителями), жаждущих единственного зрелища, а на столь экзотический фильм — тем паче. Всегда присутствовала милиция. Однажды милиционер сорвал с меня шапку и далеко отбросил — так обращались с детьми, которые лезли без очереди, — и я, помимо страха и позора, испытал острейшее чувство несправедливости, поскольку и рад бы пролезть, но боялся. Мог бы возгордиться, что меня приняли за обычного мальчишку, а я до сих пор ощущаю незабытый унизительный ужас.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: