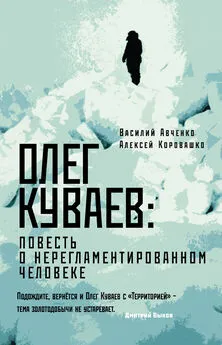Алексей Коровашко - Михаил Бахтин
- Название:Михаил Бахтин
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-04002-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Коровашко - Михаил Бахтин краткое содержание
знак информационной продукции 16+
Михаил Бахтин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Если, подчиняясь пародийной тональности цитаты из Бориса Алмазова, мы сойдем с котурн русского религиозно-философского дискурса, типичного представителя которого Иван Солоневич вывел в образе виртуальной фигуры Бердяя Булгаковича Струве-Милюкова, то реализацию этих рецептов мы можем наблюдать в злоключениях такого персонажа фильма Георгия Данелии «Осенний марафон», как профессор Хансен. Этот переводчик Достоевского на датский язык, наверняка читавший, добавим, бахтинские «Проблемы поэтики Достоевского», сначала предстает перед зрителем в образе ученого педанта, находящегося в мрачном плену рокового теоретизма и неспособного поэтому понять, что ругательное слово «облезьяна» является дивным колосом на ниве русского красноречия, а не результатом недосмотра со стороны автора и корректора. И только участие в дружеской попойке, инициированной российским аборигеном, с последующим попаданием в «трезвеватель», то бишь вытрезвитель, дает ему возможность сбросить узкое ярмо тех самых юридических начал и разглядеть в глубоком колодце всемирно-отзывчивой русской души свое собственное отражение, колышущееся в смутных ликах «алкачей» и «ходоков».
Ощущение тотального засилья «рокового теоретизма», необходимости его замены различными формами «участного мышления» было присуще, разумеется, не одному Бахтину. В середине 1930-х годов Эдмунд Гуссерль начинает работу над исследованием «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология», оставшимся незаконченным. Оно, конечно, хронологически «отстает» от бахтинской рукописи «К философии поступка», но поднимает проблемы, которые интересовали Гуссерля давно. Он вполне справедливо замечает, что еще «во второй половине XIX века все мировоззрение современного человека стало определяться позитивными науками», знаменовавшими «равнодушное отстранение от тех вопросов, которые имеют решающую важность для подлинного человечества». Эти «науки всего лишь о фактах» закономерным образом сформировали генерацию людей, «заботящихся лишь о фактах». Но трагические события Первой мировой войны, разрушившие хрустальный дворец позитивизма, породили новое поколение людей, предъявивших множество неоплаченных счетов прежней идеологии в целом и «роковому теоретизму» в частности. Господствовавшая ранее наука, в один голос заявили они, «ничем не может нам помочь в наших жизненных нуждах». И это ее бессилие вполне объяснимо, поскольку «она в принципе исключает как раз те вопросы, которые являются животрепещущими для человека, подверженного в наши злосчастные времена крайне судьбоносным превратностям: вопросы о смысле или бессмысленности всего этого человеческого вот-бытия».
Указание Гуссерля на то, что «не всегда специфически человеческие вопросы изгонялись из царства науки», что в ту же эпоху Ренессанса «их внутренняя связь со всеми науками, даже с теми, в коих (как, например, в естественных) темой является не человек», не оставалась без внимания, помогает нам сделать шаг, позволяющий осуществить сопоставление «рокового теоретизма» и «участного мышления» со «схоластикой» и «гуманизмом». В его рамках «роковой теоретизм» будет наделен такими чертами схоластического мышления, как оторванность от жизненно важных запросов конкретного человека, бесплодное манипулирование абстракциями, стремление к самодовлению и т. п., а «участное мышление» — всеми признаками возрожденческого понятия studia humanitatis (тщательного изучения того, что составляет целостность человеческого духа).
Если же говорить об аналогиях, предлагаемых нам словарями более близких по времени эпох, то бахтинское «участное мышление» вызывает безусловные ассоциации с понятием «экологической валидности», предложенным во второй половине XX века американским ученым Улриком Найссером — одним из создателей когнитивной психологии. Пусть Найссера и нельзя считать человеком, самостоятельно и в одиночку придумавшим данное понятие (оно употреблялось и до него), именно в его работах мы находим четкое определение того, чем подлинно научное мышление отличается от жонглирования модными терминами и схоластических дискурсивных практик. Чтобы какая-либо теория, предполагающая характерный стиль и метод мышления, удовлетворяла критериям «экологической валидности», необходимо, чтобы она, полагает Найссер, обладала способностью «трансформировать представления общества в целом», была в состоянии сказать нечто важное о том, «что люди делают в реальных, культурно значимых ситуациях», не сводилась к тривиальным суждениям и говорила языком, «понятным тем людям, для которых такие ситуации — реальность».
Если говорить откровенно, то трактат Бахтина «К философии поступка» перечисленным требованиям удовлетворяет далеко не полностью. Так, вряд ли можно всерьез полагать, что даже в случае завершения и публикации в середине 1920-х годов он смог бы как-то повлиять на массовые умонастроения. При самом благоприятном раскладе текст удостоился бы одной-двух рецензий и благополучно канул в Лету, дожидаясь «воскрешения» во время перестройки. Последнее, впрочем, не обернулось бы ничем существенным, поскольку «залежалых» претендентов на гуманитарный престол было тогда больше, чем потенциальных потребителей философской литературы. Столь же наивным стало бы упование на бахтинские черновые наброски в какой-то реальной критической ситуации: фраза «Поступай ответственно!» при всей своей этической безупречности никогда не превратится в спасательный круг, позволяющий держаться на поверхности житейского моря в самый лютый шторм (рассчитывать на обратное — так же безрассудно, как верить в чудодейственную силу инструкции по противопожарной безопасности, висящей на стене какого-нибудь офиса). Говорить о тривиальности бахтинских суждений, обращенных «К философии поступка», на первый взгляд вроде бы не приходится, но стоит нам отжать «воду» из творожистой словесной массы бахтинских медитаций, обильно уснащенных неокантианской фразеологией и россыпями самодельного словотворчества, как становится очевидной их узнаваемая первооснова. Первоосновой этой является, вне сомнений, христианская этика, пусть и «затушеванная» современной Бахтину философской терминологией («Если нравственность — это ответственность, — резюмирует современный теолог Хосе Мария Вегас, — т. е. свободный ответ на моральную значимость реальности, то христианство — это ответственность в чистом виде, поскольку оно есть ответ на призыв, адресованный нам Богом в Иисусе Христе»). Наконец, понятность языка, на котором написан трактат «К философии поступка», также оставляет желать лучшего. К Бахтину-автору можно предъявить те же самые претензии, которые высказывались в адрес его тогдашнего философского кумира — Германа Когена. Последний, по замечанию князя Евгения Трубецкого, имел привычку «словесным туманом прикрывать существенные недостатки содержания». Куда резче сформулировал перечень присущих марбургскому мыслителю стилистических изъянов В. Преображенский, рецензируя в журнале «Вопросы философии и психологии» (1889, кн. 1) книгу Когена «Обоснование Кантом эстетики». По мнению В. Преображенского, всем трудам Когена свойственны такие общие недостатки, как «…игра в гениальность, пророческий тон, туманность языка и вычурность стиля». Экстраполируя это утверждение на характеристику ранних бахтинских изысканий, мы не слишком погрешим против истинного положения дел.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:






![Алексей Коровашко - Олег Куваев [повесть о нерегламентированном человеке] [litres]](/books/1068511/aleksej-korovashko-oleg-kuvaev-povest-o-nereglame.webp)