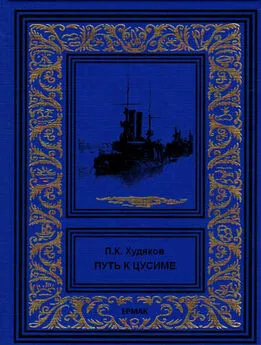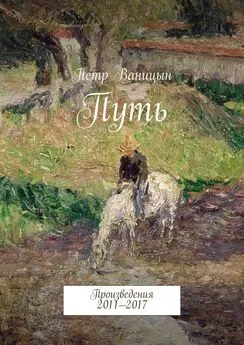Петр Худяков - Путь к Цусиме
- Название:Путь к Цусиме
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ермак
- Год:2015
- Город:Комсомольск-на-Амуре
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Худяков - Путь к Цусиме краткое содержание
Худяков собрал в этой книге уникальные свидетельства участников подготовки и похода Балтийско-Цусимской эскадры. Свидетельства преступной безответственности и некомпетентности, воровства и коррупции чиновников военного министерства, всей бюрократической системы. Адмиралов, которые не умели управлять кораблями, насыщенными новейшими техническими средствами; наместников, которые заботились только о своем кармане; политиков, которые все видели, но молчали; людей — которые подготовили Цусимскую трагедию, но, как и принято в России, не понесли за свои преступления никакого наказания.
Книга посвящена памяти инженеров-механиков флота — выпускников Императорского Московского технического училища погибших в Цусимском сражении.
Путь к Цусиме - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Перед тем как сделать последний переход на пути к Владивостоку, одна часть транспортов была нами оставлена у Сайгона [103]; другую за два дня до боя Рожественский отослал в Шанхай; а затем с собою в дальнейший путь эскадра повела еще шесть транспортов. Они были нагружены отчасти углем, а главным образом теми материалами и запасами, которые могли понадобиться самой эскадре только по прибытии ее во Владивосток ; сухопутной доставкой их морское ведомство, деликатничая с ведомством военным, не пожелало обременять сибирскую железную дорогу, которая и без того была якобы занята непосильным обслуживанием маньчжурской армии. Благодаря этой деликатности, эскадра оказалась обремененной в высокой степени; для нее были созданы весьма значительные и совершенно излишние затруднения и помехи как в походе, так особенно и в бою.
Крейсеры "Олег", "Аврора", "Дм. Донской" и "Вл. Мономах" в бою 14 мая специально были заняты не активной помощью эскадре , a только защитой транспортов от японских крейсеров. Но это мало их защитило. Они сразу попали под перекрестный огонь, сбились в кучу, стояли носами в разные стороны и двигались без толку в разных направлениях, вызывая кругом всеобщее замешательство и мешая только свободному перемещению главных сил эскадры [104].
Да и этой защитой транспортов занимались далеко не все наши крейсера. Для разъяснения этого вопроса ко 2-му изданию книги один из наших товарищей со слов очевидцев-офицеров передал мне следующий факт: "командиры некоторых крейсеров, в особенности "Светланы", старательно прятали свои суда за другие, большей частью за транспорт "Анадырь", пока, наконец, командир последнего, выведенный из терпения такими неприглядными маневрами, "вежливо" не пригласил этих господ — не прятаться и не подвергать излишней опасности "Анадырь", на котором было между прочим до 300 тонн пироксилина"…
Из семи военных судов ("Анадырь", "Иртыш", "Камчатка", "Корея", "Русь", "Свирь" и "Урал"), взятых Рожественским с собою в бой, блестяще выполнили возложенную на них адмиралом задачу только три корабля — "Анадырь", "Корея" и "Свирь": они спасли почти всю команду с "Урала", расстрелянного Японцами. Этот крейсер, с его громадным запасом пловучести, в бою был покинут начальством и командой, когда мог еще свободно держаться на воде; и под вечер 14 мая он был окончательно расстрелян и добит уже своими русскими снарядами , чтобы не достался Японцам.
За 4 дня до боя транспорт "Иртыш" сообщил, что больше 9,5 узлов хода он дать не может [105]. "Камчатка" могла развивать 10 узлов, но вести ее за собой в бой было прямо неуместно: на ней было полтораста вольнонаемных цеховых рабочих, не имевших ровно никакого отношения к бою и приведенных сюда на смерть совершенно неосмотрительно. "Корея" не могла идти и 9-ю узлами [106].
Непонятно, зачем Рожественский согласился присоединить к своей эскадре бремя этих транспортов. Непонятно и то, зачем в главном штабе особенно настаивали на этом. Никакой необходимости в этом не было, так как в это время у нас вагоны довольно свободно отдавались под частные грузы; существовала даже торговля свидетельствами, которые давали право на отправку частных грузов в Сибирь и на Д. Восток, и которые перепродавались из рук в руки с премиями в сотни и тысячи рублей [107].
Какие несбыточные надежды возлагали в СПб. на транспорты, показывают следующие строки официальной докладной записки командующего флотом, поданной кому следует перед отправкой эскадры на Д. Восток и опубликованной затем капитаном Кладо: "После боя транспорты принимают раненых, буксируют поврежденные суда и т. п." ("Нов. Bp.", 1904, № 10319). Ho чтобы выполнить этот фантастичный параграф, надо было после ожесточенного боя иметь транспорты целыми и невредимыми, — а это зависело не от нас; надо было, кроме того, вручить эти транспорты опытному персоналу, способному проявить инициативу действий, а они оказались в руках персонала, совершенно растерявшегося в бою и вовсе не умевшего с ними даже и маневрировать [108].
В результате большую часть взятых с собою в бой транспортов Рожественский погубил, — меньшинство из них случайно спаслось, действуя в конце-концов по собственной инициативе; крейсера, даже и большие, и быстроходные, бесплодно толклись в бою, охраняя только транспорты и ничуть не помогая главной боевой силе, ни в начале боя, ни в средине его, ни в конце его…
"Пройти нашей эскадре во Владивосток с победой и овладеть морем [109]— нельзя и думать! Можно ей только проскочить!.." Так думали оптимисты, к числу которых принадлежал, конечно, и сам адмирал. "Проскочить" задумали под покровом густого тумана, идя по кратчайшему пути через Корейский пролив. Надеяться на это значило, однако, ни во что не ставить трезвую бдительность, энергию, ловкость и пронырливость нашего противника. А разве это было возможно? К тому же и все даже чисто внешние преимущества были на стороне японской эскадры : она их имела и в скорости хода, — это мы знали; она была более однородна по своему составу в отдельных отрядах, — это мы испытали на опыте в сражении 28 июня 1904 г.; она не сделала кругосветного перехода кто в 30.000 верст, кто в 14.000 в.; она не обросла ракушками и водорослями на стоянках под тропиками в течение трех с половиной месяцев, — это мы хорошо знали; японская эскадра чинилась, и персонал ее имел передышку в течение девяти месяцев; а наша эскадра в походе и на стоянках все время только ухудшалась в своих качествах, и наш персонал физически и морально был измучен; измучен и трудностями перехода, и климатическими переменами, и томительной неизвестностью, и постоянным страхом пред минными атаками, которых в походе ждали непрерывно с часу на час, — и это мы знали отлично. И тем не менее мы готовились не к бою при наиболее благоприятных для нас условиях, а только к тому, чтобы как-нибудь проскочить… Только эта задача кому-нибудь из всей эскадры как-нибудь проскочить и была с грехом пополам выполнена нашей Цусимской эскадрой.
Взявшись за решение этой задачи, мы забыли о транспорта, мы забыли, что в состав боевого ядра у нас должны были входить такие старые тихоходы и "самотопы" [110], как "Николай І-й", "Сенявин" "Апраксин", "Ушаков", "Сисой Велйкий", "Наварин" и др., которые, когда они были новыми и в исправном виде, работая хорошим углем, могли развивать на пробе скорость не более 12–14 узлов в час. Но это было давно и только на пробе [111]… С тех пор они уже успели перейти в разряд старья; оно было мало полезно и в бою, и в отряде, который задумал бы "проскочить".
Да не только "проскочить" во время боя не могла наша эскадра, ей не под силу было развить порядочный ход даже и на мирных переходах в открытом океане: она не могла этого сделать из-за постоянных поломок то в машине, то в руле, и не только у изношенного и пораздерганного старья, — вроде "Сенявина" или "Сисоя", а и у новых броненосцев, как "Бородино", "Орел".
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: