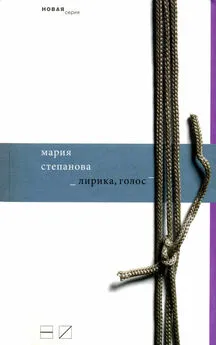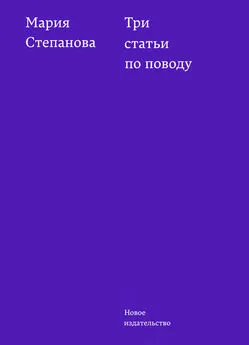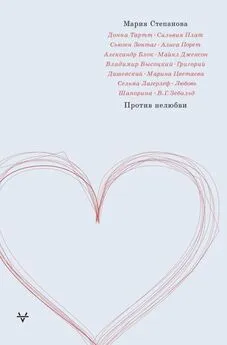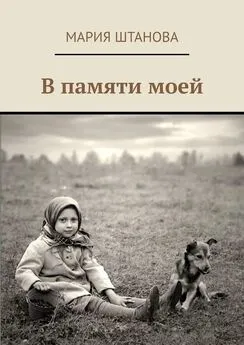Мария Степанова - Памяти памяти. Романс
- Название:Памяти памяти. Романс
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое издательство
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:98379-215-9, 98379-217-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Степанова - Памяти памяти. Романс краткое содержание
2-е издание, исправленное
Памяти памяти. Романс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Каждый анекдот, известное дело, — что-то вроде сжатого до точки романа, любой из них можно подрастить до слоновьих размеров реальности. Бывает, наверное, и обратный вариант: когда объем того, что имеешь в виду, слишком велик, чтобы пытаться дать ему место. Шутки моего деда (в газете они обходились без подписи) опирались, кажется, на безотчетную веру в существование другого мира, пузырящегося увлекательными возможностями, мира, где эротический азарт — воздух, которым дышат; где живут и дают жить другим. В них есть что-то неистребимо старомодное, словно все герои носят шляпы и запонки: на похоронах своей жены мистер Смайлз утешает ее безутешно рыдающего любовника: да не убивайтесь вы так, я скоро снова женюсь.
Здесь я должна сказать, что на фоне поколений своих сограждан, не выезжавших за границу никогда в жизни, Леонид Гуревич, можно считать, был счастливым исключением — он-то побывал в чужой стране, и об этом я знала с детства. Он родился в 1912-м с сильной врожденной косолапостью. На старых фотографиях лежал на животе младенец со светлыми до белизны глазами, в ножках на мой глаз ничего особенного не было, но их лечили, упрямо и последовательно, и вылечили-таки. Каждое лето мать вывозила Лёню в один и тот же швейцарский санаторий, где были холмы с зелеными боками, по которым он ходил все лучше и лучше, так что оказался готов к новой жизни, где путешествия кончились. Но свою Швейцарию он хорошо запомнил; когда при нем велись классические интеллигентские разговоры той поры о том, в какие города и страны хотели бы поехать собеседники, если бы такая возможность была, и Рим-Париж-Токио сыпались, как карты на стол, он все больше отмалчивался. Но если ему задавали прямой вопрос, он, как рассказывала моя мама, говорил просто, как о деле решенном: «Я бы поехал в Швейцарию».
Говорили, что первую диссертацию Лёня написал на подоконнике больницы, где ему полагалось лежать и лечиться, а у него едва хватало сил усидеть на месте. Он все время был чем-то заинтересован, и разнообразие его занятий давало внушительные финансовые плоды: дом жил безбедно, в середине пятидесятых появилась дачка в Салтыковке, обожаемые всеми полторы комнаты в пристройке старого деревянного дома, две яблони, вишня, электрички в окне. Основной род занятий у него был, по моему детскому пониманию, неинтересный, он был, как теперь это называется, урбанист, занимался городской средой, автомобильными развязками, планированием дорог.
Статьи, книги, лекции в трех институтах все не давали ему чего-то окончательного, он словно подозревал, что сделан для большего или другого, и перекидывался с одного увлечения на третье, заполняя новые и новые клеточки в невидимом опроснике. Подозреваю, что теневые истории с маленькими подругами служили той же задаче — не заполняли, но заслоняли какое-то зияние, никому не видимую недостачу. Наличная, данная ему жизнь была, что называется, полная чаша: он проектировал транспортные развязки, он играл в шахматы, он занимался изобретательством, получая новые и новые патенты, среди которых — навсегда завороживший меня объект, которым я хвасталась в детстве и горжусь посейчас: то был сложный прибор для определения спелости арбузов. Сама бессмысленность этого агрегата придавала ему особый шик: то, что можно выяснить одним щелчком (арбуз откликался сытным утробным звоном), оказывается, было подвластно более сложной механике.
К этому же кругу замещающих увлечений относилось постоянное стихоплетство. Очевидная Лёнина одаренность проявлялась и тут, строчки выкатывались, как на бульвар, радостно болтая, и поворачивались на каблучке, когда пора была пошутить. Стихи были всегда забавные, на случай, и имели дело с семейными или служебными обстоятельствами, хорошо известными адресатам. В юности он писал и всерьез, но по странной привычке где-нибудь в последней строфе спрятанная пружинка давала о себе знать, словно автор не успел за нею уследить, и возвышенный монолог завершался шутовским поклоном. Все дни рождения, свадьбы и праздники непременно сопровождались веселыми стихами, что год от году становились мрачней и язвительней, хотя этого, похоже, полагалось не замечать.
Когда-то до войны он успел заработать репутацию остроумца, застольного говоруна. Никто из тех, кого я расспрашивала, этого не застал; мамины подруги рассказывали мне об очень занятом и довольно угрюмом человеке, что здоровался и уходил к себе. Душою дома была Лёля, всеми любимая, всех любившая, выпекавшая пирог за пирогом, вышивавшая скатерть за скатертью, знавшая всех, помнившая все, державшая все огромное семейство с его троюродными и четвероюродными родичами на расстоянии объятия: близко к сердцу. Дело врачей оставило ее без работы, пока какой-то знакомый Сарры не позвал ее, еврейку с медицинским дипломом, работать к себе в санэпидемстанцию: жест отчаянного благородства, по тем временам почти самоубийственный. Там она и осталась на всю жизнь, то ли из благодарности, то ли не имея охоты к перемене мест.
Когда Лёля умерла, мама долго-долго не говорила со мной о ней, а потом вдруг спросила, помню ли я бабушку. Я помнила. Какая она была? «Она меня обожала», — сказала я уверенно. Что-то в этом роде я знаю о ней самой: ее так обожали далекие и близкие, что свет коллективной нежности до сих пор слепит и не дает разглядеть деталей. Какая она была? Тетя Сима, моя старенькая няня, заставшая время, когда все были молодые, отвечала на мои вопросы небрежно: «Веселая была. Надушится, накрасит губы — и бежит к Грибоедову, на свидание». Какое еще свидание? Кто мог ждать ее у памятника желчному дипломату, автору одного вальса и одной пьесы, — загадочный Нелидов? Мамина подруга приехала ко мне с рассказами, я хотела подробностей, она сказала: «Она была… она была положительная героиня», а потом замолчала.
То, что имелось в виду, не укладывалось в новые слова наступившего времени. Кажется, об этом и шла речь. «Положительная героиня» означало: живой анахронизм, человек иного века, с другого, отжившего рода достоинствами и добродетелями, требовавшими такого же ушедшего словаря, с неуклонной правильностью по давно упраздненным правилам. Все это должно было выглядеть старомодно и в пятидесятых, и только безмерное Лёлино добросердечие делало ее способ существования выносимым для тех, кто оказывался рядом. Чередование мягкости и жесткости, бескомпромиссности и страдательности, которое я узнаю, как родное, никак не уложить в клеточки и линейки сегодняшнего миропонимания. Помню, как я столбенела в детстве от маминого «за такое, когда я была маленькая, мама меня била по губам», вздрагиваю и посейчас. По губам : слова и поступки мертвого языка, на котором, хочешь не хочешь, не с кем поговорить.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: