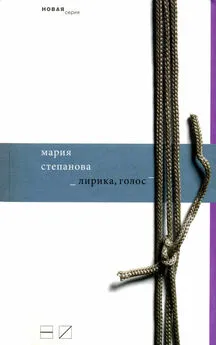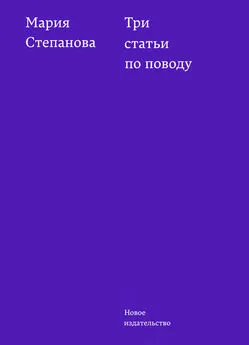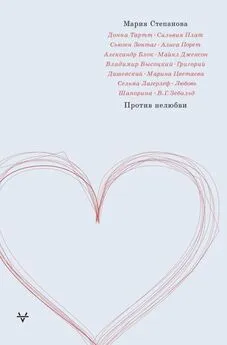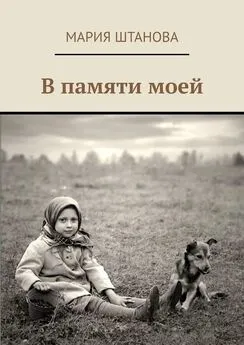Мария Степанова - Памяти памяти. Романс
- Название:Памяти памяти. Романс
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое издательство
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:98379-215-9, 98379-217-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Степанова - Памяти памяти. Романс краткое содержание
2-е издание, исправленное
Памяти памяти. Романс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мне никогда не приходило в голову интересоваться своими однофамильцами — скорей всего, просто потому, что их слишком много. Гинзбурги, Гуревичи, Степановы этого мира, мы принадлежим к его невысокому подшерстку, утеплителю , что сразу не разглядишь, и потому сами не опознаем друг друга как родственников. Серж Генсбур/Gainsbourg с русской песней «Старинный вальс „Осенний сон“», что пела мне на ночь мама, никогда не казался мне далекой рифмой к нашей истории, и еще меньше — Лидия Гинзбург с ее кромешным человекознанием и склонностью «отрясать мишуру индивидуального/уникального (частной жалости и милости, остроумия, таланта, обаяния), словно это не важно и можно не брать в расчет». Тезки, земляки, однокашники, соседи по вагону — все эти личины случайной общности, милые Зебальду, волновали меня только у чужих. Я слишком поздно прочитала про Гюнцбург, баварский город, откуда вышли все эти Гинзбурги со своей обыкновенной фамилией. Маленький и старый, он лежит где-то у Дуная, на водном пути; в двух часах езды от него другой баварский город, Вюрцбург, и его еврейское кладбище, где похоронена моя мама. Странно, что я никогда не думала о ее отъезде как о возвращении.
Они приехали в Москву еще раз, за полгода до маминой операции. Шунтирование сердца, которое было ей необходимо, тогда казалось редкой и экзотической процедурой, но уж в Германии-то с этими вещами должны были справляться, казалось нам. Да и выбирать не приходилось, врожденный, обнаружившийся уже в военном Ялуторовске, порок сердца делал свое дело, надо было торопиться. Мне было двадцать три, я казалась себе взрослой. С маминой болезнью мы сосуществовали, сколько я себя помнила; лет с десяти я выходила по ночам в коридор — послушать, дышит ли. Все было в порядке, исправно наступало утро. Постепенно я привыкла и не задавала лишних вопросов, словно боялась нарушить и без того шаткое равновесие. О том, что маме предстояло, мы толком не разговаривали, разве что обсуждали бодрые малозначащие детали больничного обихода. Поэтому не мне, а подруге она сказала устало: «Что поделать, голубчик, у меня другого выхода нет».
То, что удивило меня тогда — как ни старалась я игнорировать все, что могло бы намекнуть, что этот ее приезд последний, — мамино нежелание повспоминать . Мне казалось очевидным, что в счастливой летней Москве, пахнувшей прудом и пылью, мы непременно должны отправиться на Покровку, где стоял наш старый дом, посидеть на бульваре, подойти к школе, где все мы (Лёля-Наташа-я), одна за одной, учились. Кроме того, в мою программу входил долгий, как в детстве, разговор о старине, причем я собиралась за писать наконец мамины комментарии, чтобы ни одна единица драгоценной информации не пропала даром, в конце концов, я напишу когда-нибудь книгу о семье. Мама, к моему удивлению, ностальгическим прогулкам воспротивилась, сперва с обычной мягкостью, потом отказала наотрез: мне неинтересно. Вместо этого она взялась за уборку и первым делом выбросила в мусорное ведро старенькие плошки с надбитыми краями, служившие нам с семидесятых. Я, никогда не решившаяся бы на такое кощунство, глядела на нее в ужасе и восторге. Дом был отмыт до блеска; приезжали родственницы и одноклассницы, повидаться значило попрощаться, но об этом не говорили. Потом родители уехали.
Я вспомнила это годы и годы спустя, когда попыталась почитать отцу письма его близких: он слушал минут десять, постепенно мрачнея, а потом сказал, что хватит, всё, что ему нужно помнить, он помнит и так. Теперь я понимала это даже слишком хорошо; в последние месяцы для меня стало привычным состояние ума, когда просмотр фотографий кажется чтением обитуария. Живые и мертвые, мы в равной степени выглядели минувшими: единственной осмысленной подписью казалось «и это пройдет». Все, на что я могла глядеть без содрогания в папиной вюрцбургской квартире, где лежит свернутый вчетверо клетчатый плед, привезенный с Банного переулка, были его старые и новые фотографии — пустой берег реки с пустой, занесенной листьями, черной лодкой, и пустое желтое поле без единого прохожего, и поляна, заселенная тысячами незабудок, лишенная всего человеческого, не тронутая ничьей избирательностью, чистая и тоже пустая. Все это не причиняло боли, и я впервые в жизни предпочла пейзаж портрету. Японский альбом с дедами и прабабками лежал где-то в здешних ящиках, и никто из нас не хотел выпускать прошлое на поверхность.
В пятидесятых годах у папы была соседка по коммуналке, юная красавица Ляля, отличавшаяся вольным образом жизни. Когда ее не было дома (а дома ее не было никогда), телефонную трубку брала ее мать — и переливчатым голосом говорила: «Вам Лялечку? А Лялечка ушла в библиотэку».
Этой весной в библиотеку ушла я. Мне посчастливилось прожить несколько недель на попечении старинного оксфордского колледжа, принявшего нас с книжкой так радушно, словно мое занятие было не стыдным пристрастием, не липкой мушиной бумагой, на которой дрожали полумертвые соответствия, а чем-то разумным и респектабельным. В белых комнатах моего жилья, разлинованных книжными полками, которые нечем было заполнить, особенно же в местных обеденных и читальных залах память имела другой, чужой для меня смысл: она была не целью мучительного похода, а простым следствием длительности : жизнь вырабатывала ее, как секрет, и та загустевала от времени, никому не мешая, никого не тревожа.
Я приехала сюда, чтобы работать, а это плохо удавалось: местная жизнь действовала успокоительно и отупляюще, как будто я вернулась в никогда не существовавшую колыбель. По утрам босые ноги вставали на старое дерево пола с одним и тем же чувством благодарности; сады, как чашки, были полны движущейся зеленью, и соловьи трясли над ней жестяными коробочками. Даже то, с каким смаком дождь опорожнял свой запас на совершенные фасады и каменные причуды, приводило меня в умиление. Каждый день я садилась за письменный стол, где лежали, впервые стопкой, страницы текста, и часами смотрела мимо.
Улица называлась Высокой, High, и занимала в моей жизни место, которое можно было с уверенностью назвать чрезмерным. В правой половине стекла, обращенной к территориям колледжа, стояла прохладная тень; слева, под дождем или солнцем, улица вела себя словно экран включенного телевизора. Упрямая, она отказывалась уменьшаться и уходить в перспективу, как оно положено любой дороге, а, напротив, кренилась, словно борт корабля, задиралась все выше, так что все автомобили и пешеходы, удаляясь, лишь делались видней, и ни одна самая незначительная фигурка не пропадала окончательно. Вопреки всем законам, они только становились ближе и отчетливей — и комариных размеров велосипедист, и косой штрих его колеса; все это страшно мешало мне и моим, без того почти уже замершим, занятиям.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: