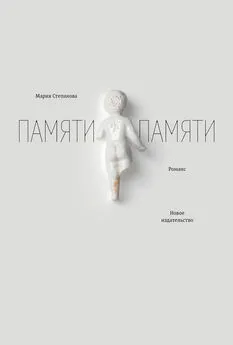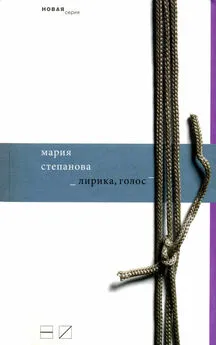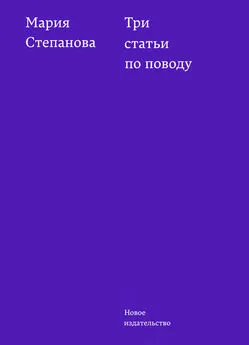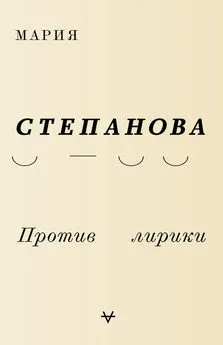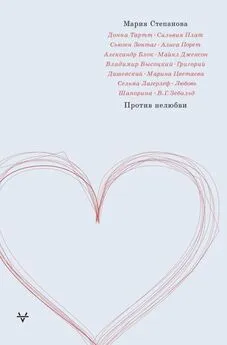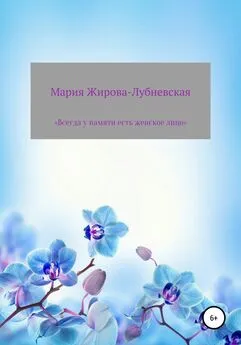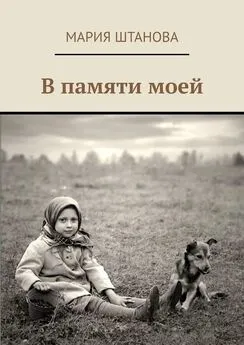Мария Степанова - Памяти памяти. Романс
- Название:Памяти памяти. Романс
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое издательство
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:98379-215-9, 98379-217-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Степанова - Памяти памяти. Романс краткое содержание
2-е издание, исправленное
Памяти памяти. Романс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Донесение было адресовано Михаилу Николаевичу Галкину-Враскому, начальнику недавно учрежденного Главного тюремного управления.
В истекшем году Ваше Высокопревосходительство, посетив Одессу, изволили обозреть местный тюремный замок и, оставшись довольны найденным в оном порядком, признали справедливым ходатайствовать о поощрении должностных лиц, под надзором которых состоит тюрьма, — за их усердную службу и особые труды. Ввиду этого в числе других был также удостоен награды начальник тюремного замка надворный советник Гуревич, которому Высочайше пожалован и 28 декабря 1890 года вручен орден Св. Анны 2 степени. К сожалению, несколько недавно происшедших в тюрьме случаев выявили безусловное несоответствие Гуревича занимаемой должности, требующей прежде всего быстрой сообразительности, решительности и неослабной бдительности. Наличность этих качеств особенно необходима для Начальника Одесского тюремного замка, где постоянно сосредотачивается значительное количество преступников каторжного разряда, влияющих при отсутствии должного надзора самым разлагающим образом на прочих арестантов, которые, обращаясь в послушное орудие первых, способствуют противодействию тюремным порядкам. К устранению этого явления Гуревичем не принимается никаких мер и, как ныне обнаружено, он нередко помещал в одной камере важных преступников вместе с неважными, вследствие чего последние оказываются в короткое время деморализованными и трудно подчиняются требованиям тюремной дисциплины. Мало того, наблюдением за деятельностью Гуревича установлено, что он позволяет себе часто делать уступки и послабления самым важным преступникам, как бы в угоду им, с целью задабривания. Крайне слабохарактерный и трусливый по природе, хитрый и пугливый Гуревич не в состоянии не только сам проявить власть, но лишает также смелости и ближайших своих помощников и надзирателей, — в трудном деле обуздания арестантского своеволия — необходимой энергии. Поэтому малейшее замешательство в тюремной жизни возводится в происшествие, а какой-либо случай — в серьезные беспорядки.
Для подтверждения вышеизложенного считаю нелишним привесть следующие случаи из жизни Одесской тюрьмы.
1. Приобретший громкую известность зверскими убийствами, грабежами и разбоями арестант Чубчик, осужденный на бессрочную каторгу, во время содержания в Одесской тюрьме неоднократно похвалялся тем, что учинит побег, и невзирая на это, он оставался почти без надзора. Под предлогом мойки белья Чубчик и двое его товарищей, тоже каторжных, были выпускаемы ежедневно по несколько раз из камеры в отхожие места, где в железной решетке окна они успели выпилить железный прут, имевшимися у них так называемым английскими пилочками, затем из утиральников и простынь связать веревку, причем Чубчик успел даже снять с себя ножные кандалы, и спустившись чрез образовавшееся в окне отверстие во двор тюремного замка, пробрались к ограде, но к счастью были вовремя замечены и задержаны.
2. …При поверке арестантов, производимой ежедневно в известные часы, старшие чины тюрьмы нередко отсутствуют и наблюдение за движением арестантов вверяется тюремным надзирателям; постели вопреки инструкциям выносятся из камеры не дневальным, а отдельно каждым арестантом, чем воспользовался в минувшем году ссыльно-каторжный арестант Кузнецов, который в числе прочих вынес и свою постель в башенный коридорчик и там на собственном ремне повесился, не будучи никем замечен.
3…были у них найдены карты, домино, кости, табак и разные металлические вещи, что и записано в соотв<���етствующую> книгу замка… На сделанное по этому поводу Инспектором Эверсманом замечание Гуревич совершенно наивно ответил, что «с этими арестантами ничего нельзя поделать, так как при обыске их надзирателями они хватают последних за грудки».
В круглой дырке смотрового глазка, где играют в домино арестанты во главе с Чубчиком, не разобрать дальнейшую судьбу пугливого Гуревича; к делу подшиты рапорты и донесения более поздних лет, из которых ясно, что порядок дел в Одесском замке не изменился и при новом начальнике, которого тоже пришлось сменить. Картинки, приходящие в движение при чтении этих бумаг, наделены курьезной и жуткой реальностью — куда больше, чем пожелтевшие, в чем только душа держится, кружевные манишки моей прабабки, съежившиеся за годы лежания в наследственном чемодане. Не предназначенные для постороннего глаза, не рассчитывавшие на долгую жизнь, архивные тексты наливаются цветом при первом же прочтении, словно только того и ждали: несчастный, один раз упомянутый Кузнецов в своей предсмертной башенке стоит у меня перед глазами, словно больше некому вспомнить его и назвать по имени. Да в общем-то, так оно и есть.
В 1930 году в Ленинграде была напечатана любопытная книжка с названием «Как мы пишем». Известные литераторы, от Горького и Андрея Белого до Зощенко и Тынянова (плюс некоторое количество представителей партийной литературы, думающих ровно то, что надо), рассказывали о том, как у них устроен процесс письма, как работают машинки замысла и исполнения. Среди прочих авторов там есть Алексей Толстой, человек, вернувшийся из эмиграции, чтобы занять диковинную нишу красного графа . Его рассказ — из самых интересных в этой интересной книге.
То, о чем Толстой говорит с недвусмысленным упоением, то, что стало для него образцом и источником вдохновения, — пыточные записи семнадцатого века, показания, записанные безвестными тогдашними чиновниками, дьяками или приказными в присутствии подследственного, с участием дыбы, клещей, огня. Толстой восхищается их умением передавать суть дела, «сохраняя особенности речи пытаемого», «сжато и точно», так что читателю удается видеть и осязать язык, его мышечную структуру. «…Здесь я видел во всей чистоте русский язык, не испорченный ни мертвой церковно-славянской формой, ни усилиями превратить его в переводную… ложно-литературную речь. Это был язык, на котором говорили русские лет уже тысячу, но никто никогда не писал».
Должна сказать, это очень талантливый текст, выстроенный так, чтобы — ценой множества мелких приемов — придать своему интересу форму респектабельности, что-то вроде этической пружинной сетки, позволяющей автору содрогаться от читательского наслаждения, не проваливаясь в бездонную черную яму, что открывается, едва соотнесешь себя с тем, что на самом деле происходит сейчас (и будет происходить всегда, пока живо записанное подьячим), с тем, чей русский язык ты пробуешь на вкус. У толстовского вкуса есть и невидимая подкладка — политические процессы, высылки и казни, еще не развернувшиеся в полную меру, но творящиеся прямо под боком, у края писательского стола: массовые операции ОГПУ, шпионское шахтинское дело, недавний расстрел литератора Силлова — «с действием этого события я не расстанусь никогда», писал Пастернак в том же 1930-м. Русские «судебные акты», как называет их Толстой, с их чередой признаний, вымученных по ходу столетий, видимо, действительно бесценный источник — вопрос в том, какому делу они могут послужить.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: