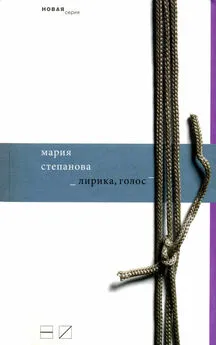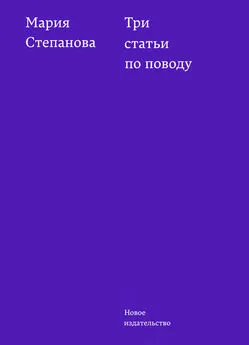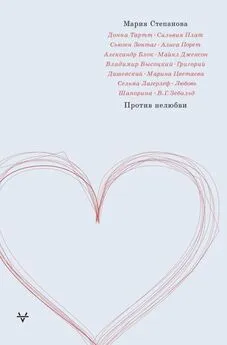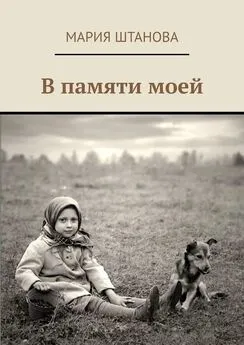Мария Степанова - Памяти памяти. Романс
- Название:Памяти памяти. Романс
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое издательство
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:98379-215-9, 98379-217-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Степанова - Памяти памяти. Романс краткое содержание
2-е издание, исправленное
Памяти памяти. Романс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Изображение мыслей в виде условного изображения предметов», упомянутое Заболоцким, — один из самых старинных видов мнемотехники, трудного дела припоминания. Память оказывается последней формой недвижимого имущества, доступной тем, кто лишен всего остального. Ее непроветриваемые залы и коридоры удерживают реальность в рамках. Папки и ящики, в которых Корнелл хранил свои рабочие заготовки, — что-то вроде подвала или чердака в доме, где ничего не выбрасывают; его коробки — парадные комнаты, куда приглашают гостей.
В 1938 году, когда расстреляли Стенича, Корнелл делает несколько киноработ, которые так или иначе связаны с идеей консервирования и закупоривания: фильм как бы преодолевает свою временную природу и становится рамой, идеальным сосудом, в котором покоится содержимое, предназначенное для бесконечного созерцания. Восемьдесят лет спустя для этого нашли элегантное технологическое решение: движение или эпизод закольцовывается, замыкается в себе, становится gif -кой — своего рода виньеткой или завитком на полях у продолжающейся жизни. Мне все кажется, что именно так, по логике гифки, всегда были устроены стихи с их причудливой, самонастраиваемой темпоральностью.
О чем-то таком (о полноте воспроизводимого заново, преображенного опыта) мечтал, видимо, Корнелл; в его «Хрустальной клетке» фигурирует циклорама — та же гифка, только в особо крупных размерах: «цилиндрическое живописное произведение в виде панорамы на поверхности в виде цилиндра, исполненное так, чтобы зритель, находясь в центре цилиндра, имел обзор в 360 градусов». Это, кажется, важно: он делает объекты, пригодные для того, чтобы разглядывать их извне, но их задача не в этом; их подлинный зритель должен находиться внутри, становиться бесконечно маленьким и всемогущим — способным увидеть, что в запечатанной коробке под слоем стекла есть второй слой с картой звездного неба, а у сундучка двойное дно, где хранится запечатанное письмо. Это лишний раз наводит на мысль о том, что адресаты этих работ — именно те, кому они посвящены, знакомые мертвецы с их (предположительным) умением проходить сквозь стены и видеть спрятанное. Корнелл прямо говорит о том, что строит город, Garden City — город-сад ; каждая работа — здание, место для будущего жильца, что-то вроде колыбели Дюймовочки, сделанной из половинки ореха и макового лепестка. Сама идея кажется невыносимо трогательной и вместе с тем макабрической. С другой стороны, корсиканские крестьяне до сих пор оставляют своим мертвым еду и питье на темнеющих ступеньках домов. Возможно, те не отказались бы и от стеклянной крыши над головой.
В одной дневниковой записи Корнелл говорит, что его представление о совершенном счастье — «стремительно перенестись в мир, где любая тривиальность насыщена смыслом». Можно предположить, что жизнь, которая ему досталась, не была несчастливой — и уж в полной мере была героической: она была полностью отдана трудному делу перенабивки трюизмов . Не было сюжета или предмета, что оказался бы для него слишком маленьким или недостаточно значительным; ни чрезмерная их известность, ни полное забвение не были для него препятствием. Что еще важнее, может быть, его уважительное внимание вызывали не только образцы и подлинники в своем музейном величии, но и их комические, стыдноватые отпрыски — лубочные олеографии, киноафиши, амуры и венеры рекламных объявлений, гипсовые ангелы; каждого из них Корнелл, почти не трудясь, возвращал к исходному замыслу. Для него самого источником вдохновения всегда оказывались поверхность, репродукция, реплика — мир больших образцов всегда оставался на расстоянии в сотни лет или тысячи километров, но и плоского знака было достаточно, чтобы налаженная переброска (так Цветаева в «Новогоднем» называет отношения с потусторонним миром) осуществлялась еще и еще раз.
В поденных хрониках Корнелла упоминается визит в нью-йоркский Музей естественной истории, библиотечный зал, где он что-то копирует, поглядывая на старинный портрет индейской принцессы. «Никогда не был в этих залах, где все так мирно и не менялось, наверное, не меньше семидесяти лет… Бродил внизу и заметил, тоже впервые, захватывающую коллекцию птичьих гнезд — в их природном состоянии и с полным набором яиц». Он посещает планетарий с его дневными звездами, с удовольствием родственника описывает стеклянные витрины со всевозможной астрономической атрибутикой. Занятно, что этот музей, его индейцы и динозавры были образом неподвижного, вечно доступного, неувядаемого рая не для него одного. В знаменитой повести Сэлинджера «Над пропастью во ржи» герой-подросток говорит об этом месте словами Корнелла, словно между ними протянулся очередной мостик совпадений и соответствий.
«Сколько в этом музее было таких витрин! А на верхнем этаже их было еще больше, там олени пили воду из ручьев и птицы летели зимовать на юг. Те птицы, что поближе, были чучела и висели на проволочках, а те, что позади, были просто нарисованы на стене, но казалось, что все они по-настоящему летят на юг, а если наклонить голову посмотреть на них снизу вверх, так кажется, что они просто мчатся на юг. Но самое лучшее в музее было то, что там все оставалось на местах. Ничто не двигалось. Можно было сто тысяч раз проходить, и всегда эскимос ловил рыбу и двух уже поймал, птицы всегда летели на юг, олени пили воду из ручья, и рога у них были все такие же красивые, а ноги такие же тоненькие, и эта индианка с голой грудью всегда ткала тот же самый ковер. Ничто не менялось. Менялся только ты сам».
Я люблю там бывать, и больше всего в тех самых залах со старинными диорамами. Спокойное достоинство, с которым мертвые звери позируют на фоне нарисованных гор и лесов, как мои прадеды и прабабки — на фоне искусственных садов и туманов, кажется ненарушимым; настоящий мир с его опилками и шерстью бесшумно и бесшовно переходит в свое иллюзорное продолжение, в розовые дали и ореховые хляби, в мыльную, умильную перспективу, которую я помню на почтовых марках, в альбомах моего детства. Синева там такая, что нельзя не вспомнить Корнелла, окапи в полосатых чулочках тянется сорвать зазевавшийся лист, олени выставили рога, рысь осторожно идет по снегу, в нагретом воздухе слышно каждый звук. Потом показывают осенний мокренький лес, рыжий, рябой, и я начинаю плакать — очень тихо, внутри ума, — потому что это тот самый подмосковный лесок, где я шла когда-то с папой и мамой многие тысячи верст назад, и вот мы с ним опять друг на друга смотрим.
Глава десятая: чего я не знаю
В Москве, на Лубянской площади, которую уже сто лет как занимают многоэтажные дома, обжитые ЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ, есть не самый заметный памятник, который принято называть просто камнем — Соловецким камнем. Его привезли сюда с северных островов, где в 1919-м был открыт концентрационный лагерь, один из первых советских лагерей: потом-то их стало много.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: