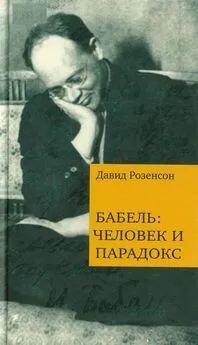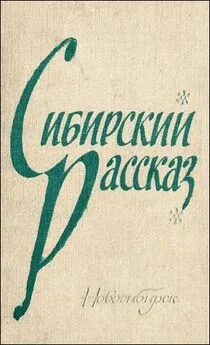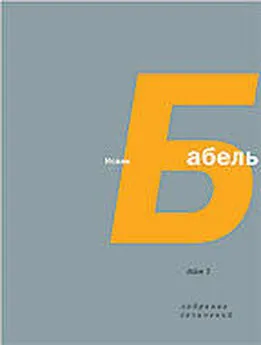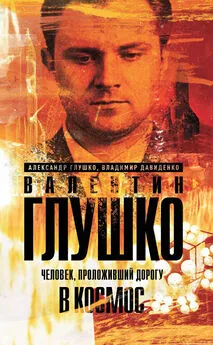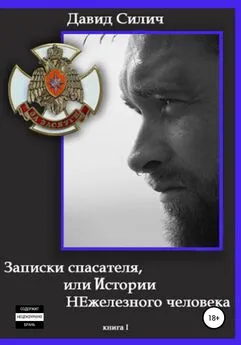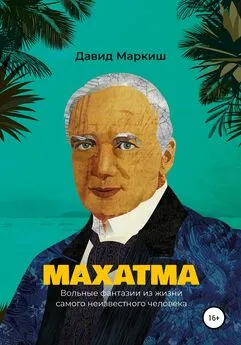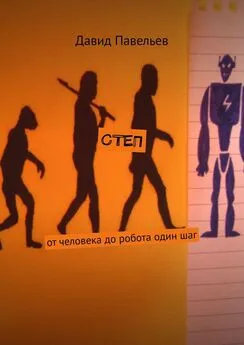Давид Розенсон - Бабель: человек и парадокс
- Название:Бабель: человек и парадокс
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книжники, Текст
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7516-1292-4, 978-5-9953-0373-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Давид Розенсон - Бабель: человек и парадокс краткое содержание
В своей уникальной работе исследователь Давид Розенсон рассматривает феномен личности Бабеля и его альтер-эго Лютова. Где заканчивается бабелевский дневник двадцатых годов и начинаются рассказы его персонажа Кирилла Лютова? Автобиографично ли творчество писателя? Как проявляется в его мировоззрении и работах еврейская тема, ее образность и символика? Кроме того, впервые на русском языке здесь представлен и проанализирован материал по следующим темам: как воспринимали Бабеля его современники в Палестине; что писала о нем в 20-х—30-х годах XX века ивритоязычная пресса; какое влияние оказал Исаак Бабель на современную израильскую литературу. Вместе с читателями автор книги пытается найти ответ на вопрос: в чем сложность и тайна личности Исаака Эммануиловича Бабеля?
Бабель: человек и парадокс - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Рассказ заканчивается приходом шабата:
„И вот она взошла на свое кресло из синей тьмы, юная суббота. (Эта фраза в ивритском переводе выглядит так: „Вот идет Царица Суббота, евреи должны идти в синагогу“. Возможно, у Шленского была другая версия рассказа. Либо он сознательно „иудаизирует“ базовые для ивритского читателя еврейские формулы и обряды, которые в этом контексте могли бы показаться странными или неадекватными и исказили бы образ русскоязычного автора на иврите. — Д. Р. )
— Гедали, — говорю я, — сегодня пятница, и уже настал вечер. Где можно достать еврейский коржик, еврейский стакан чаю и немножко этого отставного бога в стакане чаю?..
— Нету, — отвечает мне Гедали, навешивая замок на свою коробочку, — нету. Есть рядом харчевня, и хорошие люди торговали в ней, но там уже не кушают, там плачут…
Он застегнул свой зеленый сюртук на три костяные пуговицы. Он обмахал себя петушиными перьями, поплескал водицы на мягкие ладони и удалился — крохотный, одинокий, мечтательный, в черном цилиндре и с большим молитвенником под мышкой.
Наступает суббота. Гедали — основатель несбыточного Интернационала — ушел в синагогу молиться“.
Легко представить себе, каково было состояние Бабеля, когда он оказался среди красных казаков. В рассказе „Мой первый гусь“ он сообщает, как прошел через это испытание, он „образованный“, в очках, „кандидат прав Петербургского университета“. Солдаты, его полковые товарищи, решают показать ему его место как всякого „интеллигента“. Как только квартирьер поставил его сундучок, „молодой парень с льняным висячим волосом и прекрасным рязанским лицом подошел к моему сундучку и выбросил его за ворота. Потом он повернулся ко мне задом и с особенной сноровкой стал издавать постыдные звуки“. Собрав свои рукописи и нехитрые пожитки, Бабель принялся читать речь Ленина в „Правде“. Но „казаки ходили по моим ногам, парень потешался надо мной без устали, излюбленные строчки шли ко мне тернистою дорогой и не могли дойти“.
Рассказчик покупает себе мир в единый час после того, как грубо обращается со старой хозяйкой дома, пихает ее кулаком в грудь и требует дать ему „жрать“.
„— Господа бога душу мать! — сказал я, копаясь в гусе саблей. — Изжарь мне его, хозяйка.
Старуха, блестя слепотой и очками, подняла птицу, завернула ее в передник и потащила к кухне“.
Но Бабель признается, что после этого поступка душа его была угнетена, и в ту ночь, пишет он: „Я видел сны и женщин во сне, и только сердце мое, обагренное убийством, скрипело и текло“.
„Еврей, коли скачет верхом на лошади, уже не еврей“, — говорит Левка, один из персонажей пьесы „Закат“. Сам Бабель, хотя научился хорошо ездить верхом и любить коней почти так же, как казаки, и после того, как провел много месяцев рядом с Афонькой Бидой и Курдюковыми, отцами, режущими на куски своих сыновей, если те служат в рядах неприятеля, и сыновьями, без колебания убивающими своих отцов; рядом с казаками — грабителями, убийцами и насильниками, так и не стал одним из них, несмотря на свое сильнейшее влечение к примитиву, из которого слеплен казак. Бабель остался, возможно, помимо своей воли, евреем. И потому он не может не сожалеть о разрушенном бейт мидраше, еврейском доме учения, не сострадать еврейской женщине, на глазах у которой убили ее отца. Прибыв в местечко и читая надписи на еврейских погребальных плитах, он видит „изображения раввинов в меховых шапках; раввины подпоясаны ремнем на узких чреслах“. Он не может пройти мимо дома рабби, чтобы не зайти внутрь и не провести там несколько часов среди хасидов, в еврейском окружении.
Война старого и нового идет также в рассказе „Карл-Янкель“. История о младенце, родившемся у Поли Брутман и Овсея Белоцерковского, пылкого большевика. Матери Поли „нужен был внук, которому она могла бы рассказать о Баал-Шеме“. „Воспользовавшись тем, что Овсей был в командировке, а Поля ушла в больницу лечиться от грудницы, старуха похитила новорожденного внука, отнесла его к малому оператору Нафтуле Герчику, и там в присутствии десяти развалин, десяти древних и нищих стариков, завсегдатаев хасидской синагоги, над младенцем был совершен обряд обрезания“.
Овсей подал на тещу в суд, поскольку его „морально запачкали“. В суде Герчик поднимает на смех прокурора Орлова, утверждающего, что, „высасывая кровь губами, подсудимый подвергал детей опасности заражения“. Герчик в ответ напомнил прокурору, что тридцать лет назад его позвал месье Зусман (отец Орлова) сделать обрезание новорожденному сыну, и добавил: „И вот мы видим, что вы выросли большой человек у Советской власти и что Нафтула не захватил вместе с этим куском пустяков ничего такого, что бы вам потом пригодилось…“
Белоцерковский утверждал, что теща обманула его, что не только обрезала малыша, но и назвала его Янкель, вместо того чтобы назвать Карлом (в честь Карла Маркса), как он ей велел. Бабель заканчивает рассказ на личной ноте: „Я вырос на этих улицах, теперь наступил черед Карл-Янкеля, но за меня не дрались так, как дерутся за него, мало кому было дела до меня.
— Не может быть, — шептал я себе, — чтобы ты не был счастлив, Карл-Янкель… Не может быть, чтобы ты не был счастливее меня…“
С тех пор прошло примерно сорок лет. По имеющимся у меня сведениям, Янкель все еще далек от своего счастья».
Шленский снова подчеркивает, что попытки избавиться от своего наследия могут дать эфемерное чувство принадлежности к какой-то другой группе, но, несмотря на все попытки бежать от своей идентичности, в конце концов человек остается тем, кем он был от рождения. А счастье нельзя обрести бегством от своей идентичности или попытками ее изменить: чтобы достичь счастья, надо держаться своих корней и в то же время не прятаться от современности.
Мегед М. Бабель и Евтушенко // Амот. 1963 (1-й год выпуска). № 5, апрель-май. [Статья переведена и приводится целиком.]
Мати Мегед (1923, Польша — 2003, Нью-Йорк) — один из важнейших израильских писателей «поколения „Пальмаха“» (его родители прибыли в Палестину в 1926 году), составитель и редактор (вместе с поэтом Зерубавелем Гильадом) историко-документального сборника «Сефер а-Пальмах» (1955). Преподавал ивритскую и общую литературу в педагогических семинарах. Публиковал стихи и романы. В последние годы жил в Нью-Йорке. Брат писателя Аарона Мегеда (р. 1920).
«Недавно в газете „Аль а-мишмар“ я прочел: сотрудники издательства „Сифрият поалим“ собрались, чтобы отметить большое культурное событие — в самом деле значительное, как я считаю, — появление рассказов Ицхака Бабеля в переводе на иврит Авраама Шленского. И, как это принято в наши дни, устроили по такому случаю симпозиум.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: