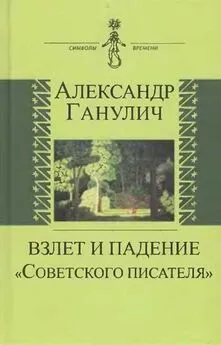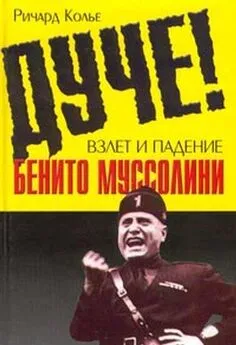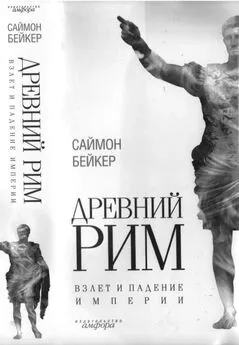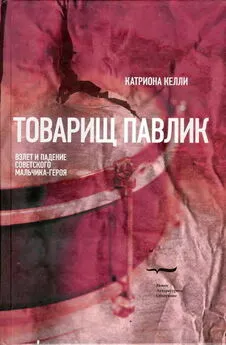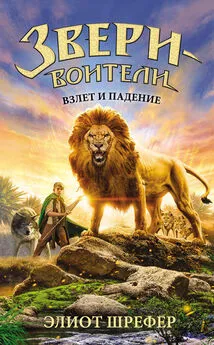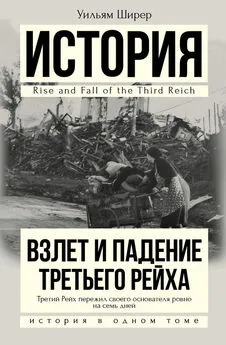Александр Ганулич - Взлет и падение «Советского писателя»
- Название:Взлет и падение «Советского писателя»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7784-0443-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Ганулич - Взлет и падение «Советского писателя» краткое содержание
В книге четыре главы посвящены общей истории поселка, которая началась в 1952 году, и двадцать глав — это очерки о его жителях. Обо всех обитателях поселка написать невозможно, поэтому автору пришлось отобрать из них всего двадцать. О тех, кому не посвящены отдельные очерки, можно прочитать в главах, рассказывающих об общей истории поселка, в которой было много юмористического, но хватало и драматизма, а порой и трагизма.
Константин Симонов и Александр Твардовский, Роман Кармен и Михаил Ромм, Зиновий Гердт и Эльдар Рязанов — вот некоторые из героев этой книги.
Взлет и падение «Советского писателя» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Антокольский помогал своим детям как мог, тем более, что в новой семье детей у него не было.
Тем временем, значимость Антокольского для театра, который уже переехал на Арбат, непрерывно растет. Он не только работает сорежиссером и даже самостоятельным постановщиком, он дарит театру и свой поэтический талант, ведь все загадки для спектакля «Принцесса Турандот» написаны Павлом Григорьевичем.
С театром Вахтангова связаны у Антокольского и первые поездки за границу. В 1923 году они едут на гастроли в Швецию и Германию, в 1928 году — в Париж. Эти поездки были интересны для Павла Григорьевича не только встречами с выдающимися французскими поэтами и художниками, например, с Пабло Пикассо и Фернаном Леже, но и открытием для себя великой французской поэзии. Он работает над переводами стихотворений французских поэтов, позже публикует поэмы и сборники стихов «Запад», «Коммуна 1871 года», «Робеспьер и Горгона», «Франсуа Вийон».
В 1930-е годы Павел Григорьевич много ездит по стране. Побывав в Закавказье, он был поражен талантом грузинских, азербайджанских и армянских поэтов. В его творчестве появляются переводы их лучших произведений. Нужно отметить и еще одно достижение Антокольского. В то время Вахтанговский театр, как, впрочем, и многие другие, берет шефство над только что образованными колхозными театрами. Павлу Григорьевичу с его женой Зоей Бажановой достается театр в городе Сергач Горьковской области. Они с энтузиазмом берутся за дело. В театре много талантливой молодежи, которая работала на строительстве Горьковского автозавода. Антокольский сделал невероятное: вскоре колхозный театр был преобразован в городской, получил прописку на Горьковском автозаводе и имя Валерия Чкалова. Сам Павел Григорьевич признался, что это его «любимая глава в автобиографии».
В середине 1930-х Павел Григорьевич начинает педагогическую деятельность: он ведет поэтический семинар в Литературном институте. Среди его учеников первых довоенных выпусков Маргарита Алигер, Евгений Долматовский, Михаил Матусовский, Константин Симонов. Все они остались близкими друзьями поэта на всю жизнь.
Война для Антокольского связана с глубокими личными потрясениями. Сын Володя был призван в армию, прошел на скорую руку обучение на артиллерийского офицера противотанкового орудия в Алма-Ате и младшим лейтенантом попал на фронт. Он погиб в первом же бою. Павел Григорьевич переживал ужасно, но внутреннее горе в нем переплавилось в замечательную поэму «Сын», ставшую утешением для сотен тысяч родителей, чьи дети пали на полях сражений. Поэма была удостоена Сталинской премии, что, естественно, послужило пищей для недоброжелателей, говоривших, будто даже смерть сына Антокольский сумел использовать себе во благо. Это абсолютно не так. Просто его переживания сразу же выплескивались на бумагу, облегчая душу. Так было и с поэмой «Сын», а позже и с поэмой «Зоя».
Во время войны Павел Григорьевич работал на фронте военным корреспондентом и ездил в прифронтовые зоны с Горьковским театром, своим любимым детищем. В войну он тесно сдружился с Александром Фадеевым, который уже тогда занимал высокие посты в Союзе писателей и тоже ездил на фронт военным корреспондентом: «Он долго жил у меня в доме, пел свои любимые песни, мы вместе пережили труднейшие дни сорок первого и сорок второго годов в голодной суровой Москве, вместе проводили бессонные затемненные ночи, слушали сводки Верховного Командования, от которых разрывалось сердце у каждого преданного родине человека». Еще одним ближайшим другом был поэт Виктор Гольцев, который вначале стал военным корреспондентом, а потом летчиком-штурманом, хотя носил очки, был близоруким, с благодушным и мягким характером. Когда он бывал в Москве, то тоже жил в квартире Антокольского.
Павел Григорьевич стал одним из отцов-основателей кооператива «Советский писатель». После войны он уже был известным поэтом, автором нескольких поэм, переводчиком французских, грузинских и армянских поэтов, лауреатом Сталинской премии 1946, вполне успешным и в материальном смысле. Участок долго и придирчиво выбирала жена Антокольского Зоя со свойственной ей основательностью. Выбранный ею участок действительно был одним из лучших в поселке. На его восточной части росли уже высокие ели, дававшие летом спасительную тень, а западная часть представляла собой березовую рощицу из совсем молоденьких березок, нежащихся под солнцем. Грибов на участке было видимо-невидимо. Соседний участок выбрал драматург Владимир Масс, ближайший друг Антокольского по жизни и сосед по московскому дому. Очень быстро на участке возникла времянка, небольшой домик из двух комнат и терраски. В этом доме Павел Григорьевич в 1953 году жил практически постоянно, так как Зоя выхлопотала справку о его болезни и вывезла Антокольского в Пахру, тем самым спасая его от последних сталинских репрессий. Уж больно фигура еврея Антокольского подходила для борьбы с космополитизмом, и помочь ему вряд ли смогли бы и Сталинская премия, и дружба с самим Александром Фадеевым. Еще в феврале 1949 года в «Правде» появилась разносная статья тогда очень известного поэта Николая Грибачева. Реакция на статью не замедлила себя ждать: Антокольского уволили из Литературного института, где он вел поэтический семинар. Начались резкие обвинения в защите декадентства и пренебрежении традициями национальной культуры. Но известное в ту пору выражение «нет человека — нет проблемы» имело не только отрицательный смысл: Антокольского в Москве не было, прегрешения его были не самыми тяжкими, и его оставили в покое.
Как только строительство дачи было завершено, Павел Григорьевич и Зоя Константиновна начали там жить: летом постоянно, зимой приезжали на выходные дни. Дом топился углем постоянно, можно было приехать в любое время. На даче жила домработница Варвара и садовник, который зимой отвечал за отопление, а летом занимался участком при непосредственном руководстве Зои. До сих пор остались многие его посадки, например, деревья, вкопанные корнями вверх, что приводило к тому, что они росли очень ветвистыми, разлапистыми, не тянулись вверх.
Варвара приехала из деревни в Москву еще в двадцатые годы. Деревенское сидело в ней неистребимо. Она успела поработать в ортодоксальной еврейской семье, что позволило ей говорить про Павла Григорьевича следующее:
— Какой же Павел Григорьевич еврей?
— Ну как же, Варя, он еврей!
— Не, он не еврей. Он не настоящий еврей, — образ жизни ее прежних хозяев в корне отличался от жизни Антокольских, да и по вере Павла Григорьевича нельзя было отнести к евреям.
Авторитет Антокольского для Вари был непререкаемым. Он долго объяснял домработнице теорию происхождения человека Дарвина, что привело к чудовищной путанице в голове православной Варвары.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: