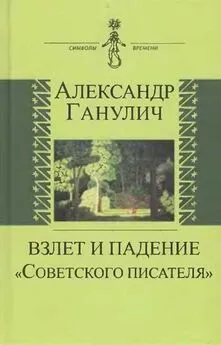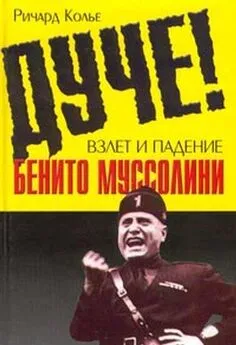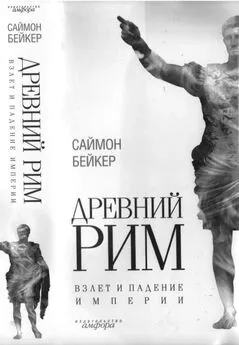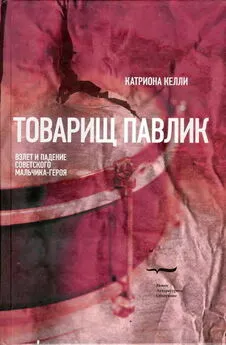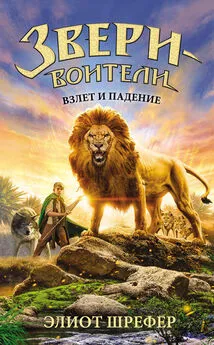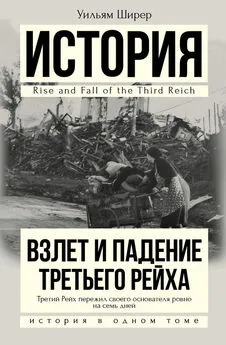Александр Ганулич - Взлет и падение «Советского писателя»
- Название:Взлет и падение «Советского писателя»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7784-0443-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Ганулич - Взлет и падение «Советского писателя» краткое содержание
В книге четыре главы посвящены общей истории поселка, которая началась в 1952 году, и двадцать глав — это очерки о его жителях. Обо всех обитателях поселка написать невозможно, поэтому автору пришлось отобрать из них всего двадцать. О тех, кому не посвящены отдельные очерки, можно прочитать в главах, рассказывающих об общей истории поселка, в которой было много юмористического, но хватало и драматизма, а порой и трагизма.
Константин Симонов и Александр Твардовский, Роман Кармен и Михаил Ромм, Зиновий Гердт и Эльдар Рязанов — вот некоторые из героев этой книги.
Взлет и падение «Советского писателя» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Когда у осужденного кончился срок, его отпустили с предписанием не посещать крупные города. Он сразу же его нарушил — заехал в Москву, что ссыльным категорически запрещалось. Второй свой срок Каплер отбывал уже в Инте в гораздо более суровых условиях. Токарской рядом не было, свобода, казавшаяся совсем близкой, исчезла на неопределенный срок. От тяжелейшей работы на каменоломне он дошел до крайней степени дистрофии. Его спасли письма Токарской, полные любви и нежности, которые буквально заставили его снова полюбить жизнь.
Вторично от ссылки его освободила смерть Сталина. В 1953 году он вернулся в Москву, вернулся к жизни. Более того, нерастраченные гонорары за последние очень успешные фильмы позволили ему вступить в члены ДСК «Советский писатель».
На участке быстро появился небольшой щитовой домик, самый скромный вариант пахринских строений. Вторым строением стал гараж. Алексей Яковлевич был заядлым автомобилистом, одним из первых в поселке. К гаражу с ямой для обслуживания машины были пристроены две небольшие комнатки. В них жила пожилая чета, Павел Андрианович и Агриппина Осиповна, которая присматривала за дачей, топила котел углем, иногда даже готовила какую-то простую еду. Павел Андрианович был попом-расстригой, редкостным красавцем, несмотря на возраст и трудную жизнь. Он сполна отсидел в Соловках, а появившись в Пахре, завел в дальнем углу участка небольшую пасеку на четыре улья.
Каплер тем временем вернулся к преподавательской деятельности во ВГИКе. Именно она в очередной раз перевернула его жизнь…
Через двадцать лет после рождения Лазаря Каплера в Москве появилась на свет девочка, которую родители назвали Юлия. Ее отец Владимир Павлович Друнин был учителем истории в спецшколе ВВС, мать Матильда Борисовна работала в ней же библиотекарем. У редкой фамилии Друнин было исконно русское происхождение. Друня — сокращенное название «дружины», то есть Друнин означало состоящий в дружине.
С дочерью у Матильды Борисовны отношения не складывались. Дочка скорее напоминала сорванца в юбке, что расходилось с материнскими представлениями о правилах поведения девочки из приличной семьи. Правда, она рано начала писать стихи и уже с детства мечтала стать литератором. Юля очень много читала. Первые стихи Друниной были опубликованы в «Учительской газете», пожалуй, только из-за юности автора, а не из-за нехватки мастерства.
На момент начала войны ей было семнадцать лет, не хватало года, чтобы отправиться на фронт законным образом. По совету отца она устроилась работать санитаркой в глазной госпиталь неподалеку от дома. Это ее не устраивало, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, она рвалась на фронт, а, во-вторых, выяснилось, что она боится вида крови, чуть ли не падает от этого в обморок. Этих двух причин хватило для того, чтобы она напросилась на рытье окопов под Можайском.
Ее расчет оправдался. Девушку взяли к себе санитаркой оборонявшиеся там пехотинцы.
Первый бой, первые раненые и убитые рядом, первое окружение, первая любовь. Комбат был молоденьким учителем из Минска, заботился о солдатах, как о детях. Он и стал постоянным героем ее стихов, которые Юля упорно продолжала писать, естественно, в корне изменив их тематику. Выходя из окружения, им пришлось пройти по минному полю. К счастью, большинство мин было противотанковыми, но на беду комбата и двух его солдат нашлись все-таки и противопехотные.
Появившись в Москве, Юля была огорошена тем, что родители должны поехать в эвакуацию вместе со школой. Несмотря на все ее сопротивление, ей пришлось отправиться в Сибирь вместе с ними. Отец еще не оправился от первого инсульта, и она понимала, что если с ним не уедет, то очень быстро его похоронит.
Под Тюменью, куда была эвакуирована спецшкола, она оканчивает двухмесячные курсы медсестер и снова забрасывает военкомат письмами с просьбой отправить ее на фронт. Но восемнадцати лет Юле еще не исполнилось, поэтому в военкомате находят способ хоть на время избавиться от настырной девчонки. Ее отправляют в Хабаровск в школу младших авиаспециалистов. Фронт становится все дальше.
В 1943 умер Владимир Друнин. Командир дал Юле несколько дней отпуска, чтобы та простилась с отцом хоть на кладбище. Сама она потом вспоминала: «Выйдя из поезда, я прежде всего выбросила свой железнодорожный билет. Потом, не заходя домой, пошла на кладбище». Далее Друнина добирается до Москвы и добивается назначения санитаркой в часть на Второй Белорусский фронт.
Она попадает в санитарный взвод лейтенанта Леонида Кривощекова, будущего поэта. Тот отлично запомнил бесстрашную девчонку, которая его поразила презрением к смерти и любопытством ко всему происходящему вокруг. Но в начале 1944 года Юлия Друнина получает ранение осколком в шею. Вначале даже не осознает его тяжести, просто перематывает кровоточащую рану бинтом.
Потом госпиталь, врачи цокают языками: несколько миллиметров в сторону и оперировать было бы некого. Было больно, было трудно, было стыдно: раненая санитарка лежала в мужской палате, других просто не было. Хорошо, что раненые мужики старались при ней меньше материться да отворачивались, когда ей делали перевязку. Здесь она написала о своих фронтовых впечатлениях, потом долго работала над строчками, пока не появились те, что ее прославили:
Я только раз видала рукопашный,
Раз — наяву и сотни раз — во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Выписавшись из госпиталя, Друнина едет в Литературный институт, находит там парторга, Славу Владимировну Ширину, дает ей почитать свои стихи. Вот чем кончилась та встреча: «Отнеслась она ко мне очень сердечно. Да и кого могла не расположить к себе и забинтованная ещё голова, и пообтрёпанная, пообгоревшая шинелька, вроде бы случайно распахнутая так, чтобы видна была медаль «За отвагу», и весь юный возраст худущего, бледнющего солдатика? Но… Слава Владимировна была человеком предельно честным. А стихи мои ей не понравились. Они и впрямь были слабыми, хотя в них попадались отдельные удачные строки.
— У тебя есть искренность, теплота.
Но у кого из девушек, пишущих стихи, нет этих качеств? Подавленная или, точнее, раздавленная, ушла я из Дома Герцена. И через несколько дней отправилась в военкомат со слёзной просьбой опять отправить меня на фронт. Я-то знала, как нужны там сёстры и санитарки. А кому я нужна здесь? Я, бездарь, невесть что возомнившая о себе».
Потом бои за Ригу, орден Красной Звезды, тяжелая контузия. В декабре 1944 года, хотя вступительные экзамены уже прошли, комиссованная по контузии Юлия Друнина в шинельке и кирзовых сапогах пришла на занятия в группу первокурсников. Никто фронтовику с ранениями и наградами отказать не смог. Так и началась ее учеба. Как к ней подступиться, сокурсники не знали. Самым смелым оказался Николай Старшинов, тоже москвич, тоже фронтовик, тоже с ранениями. Выяснилось, что в детстве они ходили в одну художественную студию при Доме пионеров, даже спектакль «Том Кенти» в Театре юного зрителя был у них обоих любимым. Стипендию она получала сто сорок рублей, еще и военную пенсию первые пол года, сто пять рублей. Было и голодно и холодно, иной раз в аудиториях замерзали чернила. Но настроение было победным, уже было ясно, что до конца войны остались считанные месяцы, да и учились поэты отчаянно, словно на фронте.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: