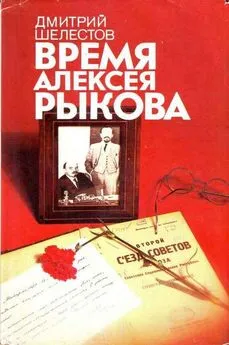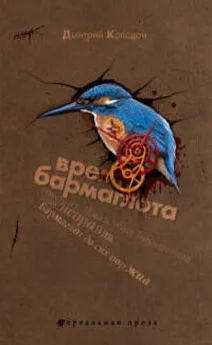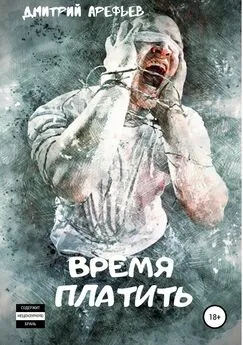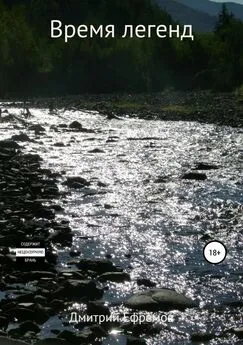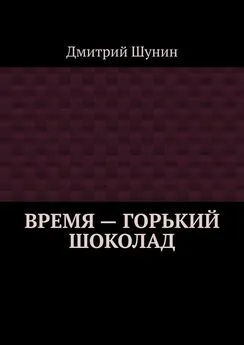Дмитрий Шелестов - Время Алексея Рыкова
- Название:Время Алексея Рыкова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство «Прогресс»
- Год:1990
- Город:Москва
- ISBN:5-01-001936-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Шелестов - Время Алексея Рыкова краткое содержание
Предлагаемая вниманию читателей книга одного из видных советских историков, доктора исторических наук Д. К. Шелестова (1927-2000) опирается на новейшие исследования и является первой попыткой рассмотреть основные вехи революционной и партийно-государственной деятельности Рыкова сквозь призму его времени.
Время Алексея Рыкова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Небольшой, но приметный слой в этом губернском городе составляли дворяне (4,5 тыс. человек), почетные граждане (3,3 тыс. человек), немало было военных (около 14 тыс. человек с семьями) и казаков (свыше 4 тыс.). Заметно было в городе и купечество (2,6 тыс. человек). Основную же массу его жителей, почти две трети, составляли представители низших сословий — мещане (28 тыс. человек), цеховые {7,5 тыс. человек) и крестьяне (25 тыс. человек). Местной особенностью было наличие нескольких тысяч колонистов — потомков переселенцев главным образом из Германии, хозяйствовавших на полученной от правительства земле. Заселённая в основном ими слобода Покровская (ныне г. Энгельс) глядела своими окошками в сторону города с противоположного саратовскому восточного берега Волги,
Таков в грубых чертах набросок социального портрета Саратова времён детства и юности Алексея Рыкова. В известной мере это был город чиновников и купцов, владельцев небольших предприятий, перерабатывавших сельскохозяйственное сырье. В 1895 году в городе уже насчитывалось до полутора тысяч рабочих. С ранней зарёй они шли к нескольким десяткам «промышленных заведений», самыми крупными среди которых были железнодорожные мастерские (на них было занято до 250 рабочих). На следующем месте по числу занятых находились табачные фабрики и чугунолитейные предприятия (в среднем по 60–90 рабочих). На каждой из сорока паровых мельниц и обрабатывавших подсолнечник маслобоек трудилось от 10–15 до 30–40 работников. Имелось в городе и несколько типографий, мыловаренных заводиков, небольших предприятий, производивших минеральное масло.
Остальное взрослое население кормилось ремеслами (в городе было свыше 12 тыс. сапожников, портных, столяров и др.), торговым огородничеством, сезонными заработками (в том числе и у колонистов), подсобными занятиями. Круглый год шли грузовые работы на товарной станции, катившей вагоны от Волги. А когда река освобождалась от зимней спячки и становилась судоходной, вереницы грузчиков тянулись к пристаням. На примыкавших к ним песчаных косах летними ночами вспыхивали артельные костры, вперемешку с горожанами теснился пришлый люд, появлялись бурлацкие ватаги, суровая жизнь которых с развитием пароходства все больше сходила на нет.
Весь этот многоликий мир, с его повседневным трудом, заботами и бедами, мир больших и малых контрастов, богатства и обнажённой нищеты или с усилием прикрытой бедности, свойственной и Рыковым, годами не просто откладывался в сознании подрастающего гимназиста, но и пока ещё не вполне осознанно выталкивал его из обычной колеи, которая с получением образования вела к большему или меньшему личному благополучию. Недавно драматург Александр Гельман заметил, что большевистская партия с её гуманистическими идеалами началась не с того, что её основатели однажды прочитали Маркса, а «с человеческого возмущения тяжелым положением трудящихся классов, большинства народа, с сочувствия, сострадания униженным и оскорблённым. Партия выросла из гуманистических устремлений, это её общечеловеческие питающие корни». Трудно не согласиться с этим замечанием, размышляя над судьбой юного Рыкова — одного из многих будущих строителей партии. Не здесь ли, на малой родине, возникли зачатки той высокой нравственности и гуманизма, которые затем разовьются и станут неотъемлемыми качествами большевика Рыкова?
Заметим вместе с тем, что возникновение таких зачатков вело и к чтению работ Маркса, а также многих других, как все более оказывалось, весьма прозорливых трудов. Поступив в гимназию, Рыков попал в среду учащейся молодёжи. Как это ни удивительно, её прослойка в провинциальном Саратове была относительно велика. По данным за все тот же 1895 год, здесь насчитывалось 10,5 тыс. учащихся. Рыков рано оказался среди той части учащейся молодёжи, которая, к примеру, не просто знала, что в их родном Саратове родился и совсем недавно (в 1889 году) после долголетних мучительных ссылок умер Николай Чернышевский, но и стремилась вникнуть в то дело, которому он и другие революционеры посвятили жизнь, О последних они знали не по книжкам и не из устной молвы. Саратов того времени был одним из «ссыльных городов» империи, куда хотя и не гуртами, но все же в заметном количестве гнали «политиков», отражавших все спектры постепенно зреющей революционной бури.
Юный Рыков и его друзья не могли тогда четко себе представлять, что российское революционное движение к их времени уже миновало два начальных периода — первый, дворянский, возвещённый на переломе XVIII и XIX столетий Александром Радищевым, а затем переживший взлёт под грохот пушек на петербургской Сенатской площади 14 декабря 1825 года, и второй, разночинский, в свое время представленный революционными демократами-шестидесятниками во главе с Чернышевским, «хождением в народ» семидесятников, подлинными героями «Народной воли» конца 70-х — начала 80-х годов, а теперь истончившийся в ручеек либерального народничества.
Осознание несостоятельности народнической доктрины станет первым условием движения юного Рыкова к марксизму. Но вместе с тем вряд ли стоит забывать, что у истоков этого движения — героические примеры предшествующих революционных поколений — от декабристов до народовольцев, при всей их исторической ограниченности и обречённости развивавших российскую революционную традицию, утверждавших её высокий гуманизм и нравственность. Примечательно, что практически все большевики, вставшие на путь революционной борьбы в конце XIX и самом начале XX века, так или иначе лично соприкасались с «осколками» революционного народничества. Тому есть немало примеров. Один из них связан с гимназическими годами Рыкова, сблизившегося со старым народовольцем Валерианом Балмашевым, библиотекарем Саратовского коммерческого собрания. Бывая на балмашевских «субботниках», собиравших радикально настроенную молодёжь, он постепенно все более настойчиво вступал в споры со сторонниками народнических взглядов; возможно, в этой связи Рыков основательно занялся изучением крестьянского движения, пока ещё скорее всего отчетливо не осознавая, что вся его судьба будет связана с иным, уже заявившим о себе Морозовской стачкой 1885 года классом — промышленным пролетариатом.
То было время, когда революционные молодёжные кружки нередко внешне представляли собой своеобразное беспорядочное «броуновское движение». Читали Чернышевского, Писарева, Михайловского, но и Плеханова — автора первых русских марксистских работ и переводчика «Манифеста Коммунистической партии». Не таким ли путем пятнадцатилетний Рыков пришел к знакомству с Марксом, первый том «Капитала» которого был не просто прочитан, но и изучен? Один из старых большевиков — Александр Аросев — позже утверждал: «Маркс постигался только как ученый, а не как революционер. Его «Капитал» читался только как теоретическая работа, а не как призыв к живому действию».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: