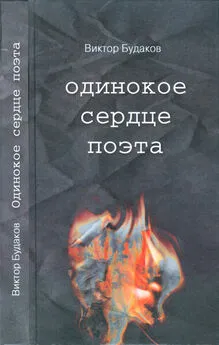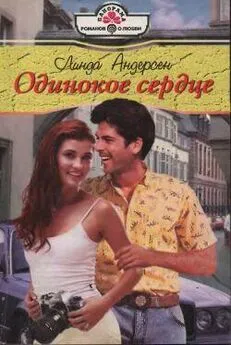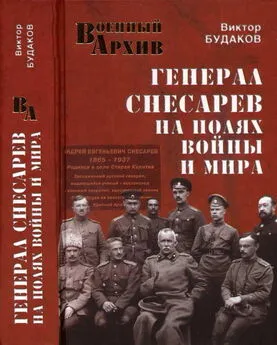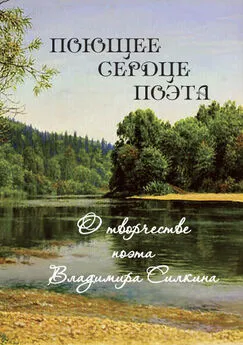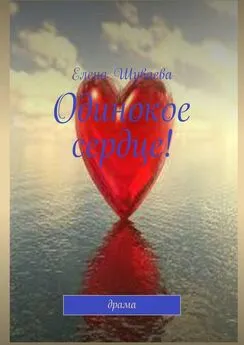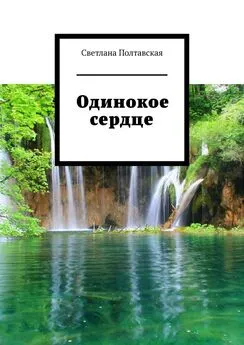Виктор Будаков - Одинокое сердце поэта
- Название:Одинокое сердце поэта
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центр духовного возрождения Черноземного края
- Год:2005
- Город:Воронеж
- ISBN:5-900-270-74-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Будаков - Одинокое сердце поэта краткое содержание
Книга издана при финансовой поддержке администрации Воронежской области
Книга Виктора Будакова «Одинокое сердце поэта» — первое наиболее обстоятельное и серьезное лирико-биографическое повествование-исследование о жизненном и творческом пути русского поэта, уроженца воронежской земли Алексея Прасолова.
В книге широко представлены документальные свидетельства, географические, событийные, исторические реалии. Образ поэта и его строки даны в контексте отечественной поэзии и истории.
Повесть «Одинокое сердце поэта», опубликованная сначала в газете «Воронежский курьер», затем в столичном издании «Роман-журнал. XХI век», вызвала большой резонанс в российском литературном мире.
Одинокое сердце поэта - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Стали открывать бутылку, она выскользнула из рук и разбилась. Минутное огорчение и у Прасолова, и у Жиляева сменилось оживлением людей, которым не без потерь удалось перепрыгнуть овраг. Увидели в этом знак и полушутя условились пореже «перепрыгивать овраги», и да будет их хмель-охота повержена, как уроненная бутылка.
Проговорили до полуночи, и словно третий был с ними — Есенин: возвращались к его судьбе, к его жестокой петле, к пережившей его на тридцать лет матери. Читали, читали есенинские стихи, больше всего — «Не бродить, не мять в кустах багряных лебеды и не искать следа…» Тяжел, недобр лунный свет, но хороша ночь, роднящая двоих единых годами, единой землей, единой тягой к прекрасному.
На другой день, в вечерний час, по дороге от Дона, мимо огромного деревянного зернохранилища, на стенах которого все еще четко бросалось в глаза черной краской коряво прописанное: «Смерть немецким оккупантам!», «Мины!», «Мин нет», Жиляев завернул в редакцию. Было темно в окнах, но на дворе лунный свет все освещал, как днем, только отрешенно-мертвенно, тяжело. И напротив от редакции, на рубчатой ограде райисполкома, он увидел словно бы магнитом притянутого к ограде человека с раскинутыми руками.
До конца недели Прасолова на работе не было. Появился в понедельник, измятый, с землисто-серым лицом. И тут Рая Каменева взялась «прорабатывать» его. Нет, не с того, что в редакции была секретарем комсомольской группы. Год назад окончившая школу, искренняя, отзывчивая, порывисто восторженная и свято верящая в справедливость, любящая отечественное поэтическое слово, она чувствовала незаурядность, необычность прасоловского дара, и ей жалко было поэта, его не во благо потраченного времени, попусту измученного сердца. «Проработку» Прасолов выслушал молча, не проронив ни слова. Но во взгляде — резком, недоуменном — вскользь словно бы вопрос: «И ты?» Она почувствовала, что слово ее — не вовремя, не к месту и напрасное.
Так вышло, что Рая Каменева была Алексею Прасолову самым близким человеком в редакции. Душевным товарищем. Однажды, еще месяца за два до наивной и бессильной «проработки», она неожиданно увидела поэта в вечернем парке, у танцплощадки. Едва ли кто из танцующих знал, на каких камнях устроена ограда их вечерней радости. Еще в тридцатом здесь непорушенно вздымался Троицкий храм. И душу, и средства, и строительные способности вложил в него местный священник. Внук того священника — человек в духовном мире известный: уроженец Новой Калитвы — Леонтий (Лебединский), митрополит Варшавский, позже митрополит Московский.
Прасолов остро чувствовал неестественное, выморочное состояние жалкого уголка, где угнездилось гульбище. Тогда еще не было ни пестрящих цветомузыкой дискотек, ни оглушающих и уныло похожих друг на друга рок-групп, ни «тяжелого металла», но нехитрый рисунок развлечений в кружении тел и тогда был тот же, что теперь. И Прасолов сказал Каменевой, что его удивляет и огорчает убогость и однообразие такого рода развлечений. Тем не менее они часто встречались именно в этом парке. Все ее подружки танцевали, а она и поэт на близкой от танцплощадки скамейке, под чахлыми кленами и акациями, под слабосильными фонарями, под куполом звездного неба говорили о поэзии, читали друг другу любимые строки — пушкинские, блоковские, есенинские. Иногда Алексей читал и свои стихи, еще не напечатанные. Так — весь август.
А началась осень — зачастили дожди, слякоть расползлась по слободе и, казалось, заползала в души. Откуда было недавней десятикласснице знать, что в осеннюю слякоть у поэта особенно обострялись чувства тоски, одиночества, горькой памяти? А водка была — как влага забвения.
На другой день после того, как Прасолов уехал, Каменевой передали два листа низкосортной желтой бумаги, размашисто исписанных прасоловской рукой. Посвящение ей. Ответ ушедшего.
И пробил час…
В последний раз
Волна донская
Всплеснется вмиг
У ног моих,
Песок лаская.
О древний Дон!
Твоих седин
Не опорочу,
Тебя я песнею будил
Нетрезвой ночью.
Легла знобящей синевой
На воду осень.
Я никогда б,
Товарищ мой,
Тебя не бросил.
Но есть еще одна река —
Она сильнее.
Ей имя — Жизнь,
Во все века
Я дружен с нею…
На семидесятилетие Прасолова моя бывшая соклассница в Новой Калитве передала мне в подарок эти два совсем изжелтевших листа с прасоловским посвящением.
Так я их старался уберечь, что и не знаю, как потерял. Кажется, навсегда. То ли они погребены в какой-нибудь книжной или бумажной кипе, то ли, вероятнее всего, нечаянно выброшены, «пристав» к ненужным бумагам. Малое утешение — ксерокс прасоловских строк.
Десятки и десятки подобных листов, посланных поэтом из тюрем и случайных мест в журнальные и газетные редакции, там и затерялись. Письма, адресованные знакомым, все ли сохранились они? А сколько, и часто стихотворных, посвящений, подписей на сборниках или где-то хранятся да неизвестны широкому читателю, или вовсе утрачены вместе со сборниками — утрачены при разных обстоятельствах.
Прасолов нередко, написав что-либо, — если не стихотворение, — мало заботился о дальнейшей судьбе написанного. Существенно было выговориться, занести на лист бумаги. А дальше? Знал — рукописи не горят? Или странная небрежность к уже проговоренному? Тут образец великий — Тютчев! Не то что лист заполненный, но и полрукописи по нечаянности, небрежности мог в камин швырнуть, по рассеянности наконец. Когда же обнаруживалось непоправимое, ни отчаяния, ни даже огорчения не испытывал.
В русской литературе бывали примеры сознательной расправы с детьми-рукописями, как-то поступил Гоголь со вторым томом «Мертвых душ», и у него были и предшественники, и последователи. Более многочисленны, если не бесчисленны, примеры нечаянных потерь. На море и на суше. При крушениях, переездах, пересылках; при обысках, при разбойных налетах и кражах; при всякого рода несчастных случаях в библиотеках и архивохранилищах, в тюрьмах и частных домах.
А сколько рукописей — чьих? каких? — поглотили монголо-татарское нашествие, им в полымя кинутые храмы и монастыри, наполеоновское нашествие, Московский пожар 1812 года, Гражданская и Великая Отечественная войны.
Земляки Прасолова, писатели Черноземного края, серединной России, тоже часто, вольно или невольно, лишались написанного. Новиков-Прибой дважды, при угрозе собственной жизни, утрачивал «цусимские» записи. Бунин одесские страницы «Окаянных дней» надежно запрятал в земле и, в спешке и навсегда покидая родину, в земле их вынужден был оставить истлевать. Станкевич сжег рукопись своей ранней драмы «Василий Шуйский». Шидловский, философ, друг молодости Достоевского, предал огню свое исследование по истории русской церкви. С Державиным и вовсе курьез приключился. Торопясь в Петербург, и во время чумы задержанный на карантинной заставе из-за походного сундучка, досмотр которого требовал дополнительного часа, вспыльчивый поэт тут же сжег сундучок, заполненный рукописями его стихов и переводов. А Прасолов? За два с небольшим года до ухода из жизни, он, правда, не без сожаления пишет:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: