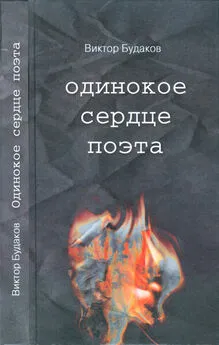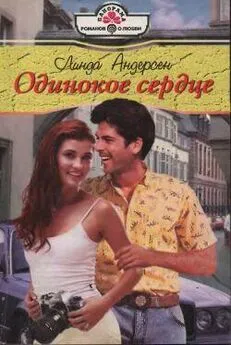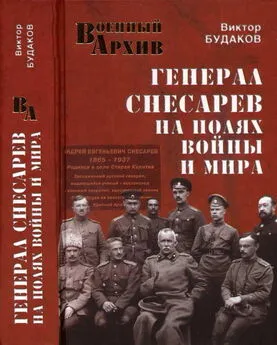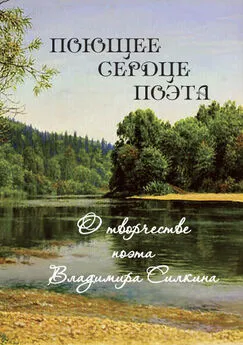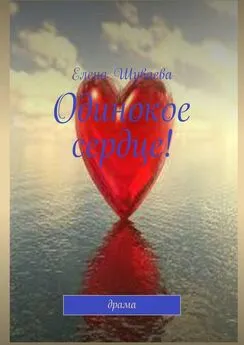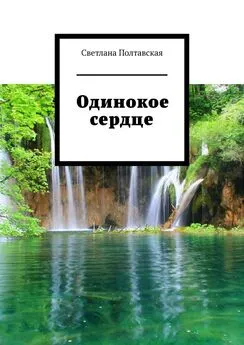Виктор Будаков - Одинокое сердце поэта
- Название:Одинокое сердце поэта
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центр духовного возрождения Черноземного края
- Год:2005
- Город:Воронеж
- ISBN:5-900-270-74-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Будаков - Одинокое сердце поэта краткое содержание
Книга издана при финансовой поддержке администрации Воронежской области
Книга Виктора Будакова «Одинокое сердце поэта» — первое наиболее обстоятельное и серьезное лирико-биографическое повествование-исследование о жизненном и творческом пути русского поэта, уроженца воронежской земли Алексея Прасолова.
В книге широко представлены документальные свидетельства, географические, событийные, исторические реалии. Образ поэта и его строки даны в контексте отечественной поэзии и истории.
Повесть «Одинокое сердце поэта», опубликованная сначала в газете «Воронежский курьер», затем в столичном издании «Роман-журнал. XХI век», вызвала большой резонанс в российском литературном мире.
Одинокое сердце поэта - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тяжесть исходит из астрономически дальних сфер, от бунтующего солнца, от магнитных бурь. Жарко, тяжело дышит земля. Дни тяжелые. Горизонты тяжелые. Пыльные бури надвигаются с востока…
Когда спадает жара и солнце заваливается за горизонт, он с товарищем идет к берегу речушки. Но свежести и здесь нет. Ему в тягость еще вчера приязненный товарищ, ему хочется, ему надо побыть одному, одиночество — спасение!
Назавтра он решает уйти на дальний пруд, по вечерам обычно пустынный. И на другой день в сумерках он действительно добирается туда, и пруд действительно пустынен. Ни души человеческой.
Одинокая лошадь, едва видимая в темноте, выдает себя тихим ржаньем. Стоит у самой воды. В его жизни уже было это — тишина, заросший, как озеро, полевой пруд, наклоненная к воде конская голова и звездное небо. Большими буквами — Звездное Небо. Мирозданье. И снова, как тогда, он думает о том, что же видится одинокой лошади у воды, ненадолго свободной от седока, от упряжи, от поденщины на кружиле, от всемирного цирка? За одинокой конягой у ночного пруда словно бы угадывались миллионы их, долгие века служивших человеку и на поле брани, и на поле хлебной страды. Тогда небольшой пруд как бы вбирал в себя все времена и пространства. Тогда родились стихи, которые он вдруг стал читать теперь другой лошади у молчаливого ночного пруда, на фоне звездного неба, где реактивный самолет или космический спутник — как непрошеные гости.
Мирозданье сжато берегами,
И в него, темна и тяжела,
Погружаясь чуткими ногами,
Лошадь одинокая вошла.
Перед нею двигались светила,
Колыхалось озеро без дна,
И над картой неба наклонила
Многодумно голову она.
Что ей, старой, виделось, казалось?
Не было покоя средь светил:
То луны, то звездочки касаясь,
Огонек зеленый там скользил.
Небеса разламывало ревом,
И ждала, когда же перерыв,
В напряженье кратком и суровом,
Как антенны, уши навострив.
И не мог я видеть равнодушно
Дрожь спины и вытертых боков,
На которых вынесла послушно
Тяжесть человеческих веков.
Эту тяжесть веков-оков он ощущал и на себе, и все явственней. Да и текущее угнетало, давило. Получил известие от матери о смерти родственника — близкого человека. Скорбная весть, запись в дневнике: «Могилы нашего рода разбросаны по стране». Запись скорбная и… незаконченная — в смысле драмы самой страны. Трудно предположить, чтобы он не думал далее: была Гражданская война, и еще война, был исход — и могилы русских разбросаны по всему миру. Он хорошо знал Бунина, Рахманинова и знал, что на чужбине остались не только они, — сколько русской силы лишилась Россия! И что же дальше? Когда-то Русь в полон уводили на аркане, со связанными руками. А в его веке она — в немалой своей части изгнанная или ушедшая в изгнание.
Записывает в дневнике: «душа какая-то притихшая, как опустелый дом…» и невольно думает о неизбежном часе, когда весь мир станет как опустелый дом.
Три июньских дня кряду Прасолов приходил на работу с заметным опозданием, чего с ним прежде никогда не случалось. Был особенно мрачен, нервозен, раздражителен, и редактор уже знал — хорошего не жди, но не знал, как нехорошее предотвратить.
В обеденный перерыв поэт упросил знакомого взять для него, до скорой зарплаты, «огнетушитель» — тяжелую бутылку в три четверти литра плодового вина. А после обеда уже, как скошенный, он лежал на затравелом заднике двора под палящим солнцем. Руки вразброс, весь как живой крест. Глазами в небо, но Неба не увидать. Он себя не помнил, он не чувствовал, что он есть. Когда же пришел в себя, кругом чернела ночь и во дворе никого не было. Сначала он обрадовался, что его никто не видел — такого, а затем вдруг по-детски обиделся: почему никого нет рядом, неужели никому неохота ему помочь?
(Чем помочь, Поэт, какою правдой и силой? Сколько русских, да и только ли русских, даровитых, талантливых, честных сердец погибло от «горькой»? От чахотки? От мировых волн и бурь? От невнятных подземных толчков и небесных гроз? От надлома, надрыва? От непонимания близкими и неблизкими? От одиночества, поверхностного объяснения которому нет? Сколько великой музыки ушло вместе с безвременно ушедшим Мусоргским? Сколько сокровенных картин не дорисовал Саврасов? Сколько прекрасных стихотворений не допел Есенин?)
Он долго сидел под звездами, на штабеле свежих сосновых досок, грустно подумав о назначении их: то ли для дома, то ли для домовины-гроба… Он чувствовал себя больным, но все же воля жизни поднималась в душе и теле, мозг и память его уже работали сильно и четко. Да, болен. Может, и как Полежаев. Александр Полежаев. Водка и чахотка — как злые и неразлучные сестры. «Все страшнее воют бездны» — это из «Песни погибающего пловца». Да ведь все живущие — пловцы, и многие не доплывают. У того же Полежаева — бездомовная, на колесах, жизнь, лазарет. И было с чего написать: «Не розы светлого Пафоса, не ласки гурий в тишине, не искры яхонта в вине, но смерть, секира и колеса всегда мне грезились во сне!» Среди прочего вспомнились почему-то и слова из «Двойника» Константина Фофанова, поэта, прочитанного им не без интереса и сочувственно, — «он на оргиях встречался и встречался у гробниц». В памяти всплыли и биографические штрихи поэта, родившегося более века тому назад. С женой, кажется, повезло. А так — горемычный удел, жалкий быт, винная пагуба, болезнь, нищета. В последние годы напрашивался хоть в дворники, хоть в половые. И в стихах — жалобы на тяготы и удары судьбы, завидует бронзово-изваянным творцам: им и зимою не холодно, они не замерзнут.
(Но, и еще раз но… Что у Фофанова, что у Прасолова, что у других поэтов, необласканных судьбою, временем, властями, драма в поэтической строке отнюдь напрямую не вытекает из драмы лично-житейской или политической. У поэзии — свое, только ей данное и принадлежащее, где бы она ни рождалась и ни проявлялась. Как и у поэтов. У настоящих. Где они ни живи, чаще всего над ними — рок. И здесь мало что решают географический пояс, среда и такие мифы, как свобода, у которой обличий больше, нежели истолкователей ее и всякого рода песнопевцев. Тот же Фофанов на сей счет не заблуждался: «В свободном городе Нью-Йорке поэтов лавры очень горьки». Опять-таки — поэтов настоящих, истинных.)
Поэзия — состояние, где не все можно объяснить литературоведчески, психоаналитически или иным жестким образом: острый скальпель здесь обычно скоро затупляется.
Объяснения же образу жизни творца и его подчас печальным пристрастиям, в том числе и «зеленому змию», существуют самые разнообразные — биологические, психологически, генетические, социальные, даже политические.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: