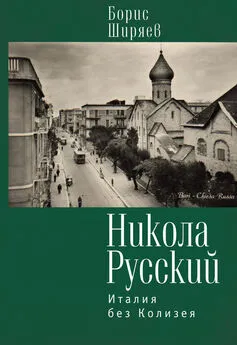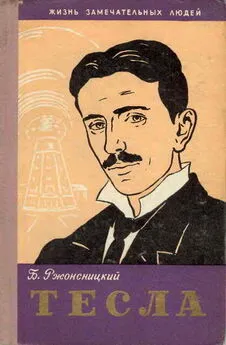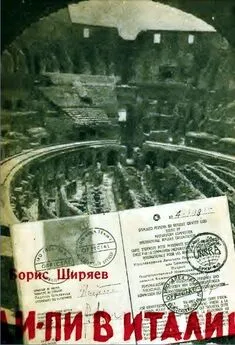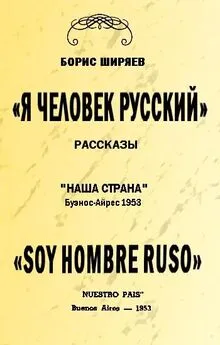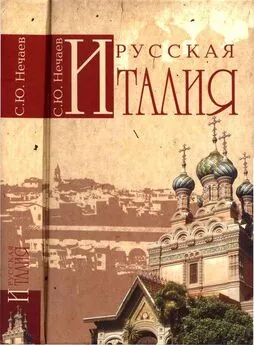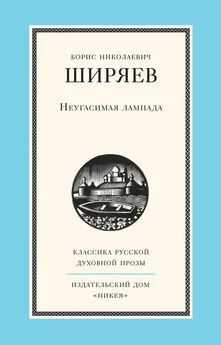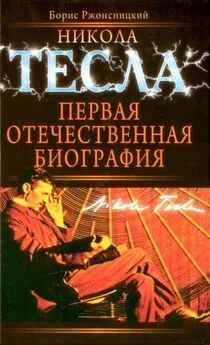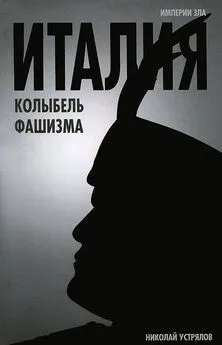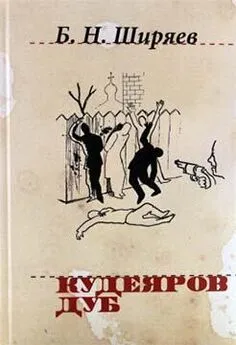Борис Ширяев - Никола Русский. Италия без Колизея (сборник)
- Название:Никола Русский. Италия без Колизея (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алетейя
- Год:2016
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-90670-524-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Ширяев - Никола Русский. Италия без Колизея (сборник) краткое содержание
Никола Русский. Италия без Колизея (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
После оккупации Ставрополя германскими и румынскими войсками в августе 1942 г., Борис Ширяев стал редактором антикоммунистической газеты «Ставропольское слово», позже переименованной в «Утро Кавказа», распространявшейся по всему северокавказскому региону. Когда началось отступление немецких войск, Ширяев, получивший чин капитана Русской Освободительной Армии генерала Власова, попал в ее пропагандную школу в Дабендорфе под Берлином, а затем издавал газету для казачьих отрядов, вошедших в состав германской армии из антикоммунистических побуждений. Существует фотография, на которой можно видеть Ширяева в форме РОА. B феврале 1945 г., он был командирован в Италию, где расположился Казачий Стан белого атамана Краснова. Там он работал в газете «На казачьем посту».
После окончания войны и плена, Ширяев остался в Италии, сначала – в лагере для перемещенных лиц («Ди-Пи»), добывая себе средства для существования различными трудами, в частности, торговлей книгами.
Помимо монархической деятельности, писатель принимал участие и в политических организациях ветеранов-антикоммунистов. Сперва в рядах власовского «Союза Андреевского Флага» генерала Глазенапа, а затем в «Суворовском Союзе» бывшего командира 1-й Русской Национальной Армии Хольмстон-Смысловского.
В начале 1955-го его единственный сын Лоллий, родившийся 21 июля 1937 г., покинул отчий дом. Об этом Ширяев писал Дубровскому:
«Решение Лоллика выехать в США вызвано целым комплексом причин: в итальянскую морскую школу он мог быть принят только как иностранец, без права на офицерский чин, а кроме того, сама эта школа, равно как и дальнейшая карьера в Италии, во многом уступают США. Следовательно: раз представилась возможность, ему нужно было покинуть нас, что всё равно произошло бы рано или поздно. В нем самом я уверен. Он крепкий, знающий свой путь мальчик, владеющий собой, привыкший к самостоятельности и умеющий работать. Значит, не пропадет. Так что у меня нет даже грусти при его отъезде, наоборот радость за него, за то, что я всё же смог ему открыть дверь в жизнь. Мама, конечно, грустит, но и она сознает необходимость этого отъезда. Нам же самим, при приобретении нашего маленького участка – домик в нужном нам размере почти достроен – лучше оставаться в Сан Ремо, пользуясь в дальнейшем его помощью. Америка не для нашего возраста, да и не для нашего уклада жизни. Следовательно, всё слава Богу».
Тем не менее, писатель соблазнился, и в том же году переехал в США, где давал показания о Катынских расстрелах на комиссии Конгресса и нашел работу в известном книжном магазине Камкина. Однако хорошо устроиться ему не удалось. В письме Дубровскому от 26 февраля 1956 г. Ширяев сетовал: «Живу я морально довольно одиноко, материально скверновато». Эту свою неудачу он приписывал политическим мотивам: «С меньшевиками я, не в пример прочим, сразу занял резко отрицательную позицию, что и послужило причиной моего неустройства в дальнейшем в США. Будь я иной, имел бы сегодня „джаб“ на 400–500 долл. в месяц. Это очевидно. Донкихотства мною было проявлено более чем достаточно, я его считаю принципиальностью. Вообще с людьми я стараюсь быть честным». Не прижившись, Ширяев вернулся в Италию.
Вольфганг Казак подчеркивает, что Ширяев – писатель-реалист, перерабатывающий в своей прозе то, что сам пережил или слышал. Действительно, всё содержание его творчества тесно связано со странствованиями и мытарствами самого автора.
Наибольшей заслугой Ширяева, считает Казак, – является изображение Второй Мировой войны с точки зрения русского патриота, который отвергает тоталитарную советскую систему и из соображений о пользе для своей нации готов сотрудничать с немцами. На самом же деле Ширяев, как и подавляющее большинство участников Русского Освободительного Движения 1941–1945 гг., стремились не сотрудничать с немцами, а использовать их для свержения советской власти. Они не сомневались, что после падения коммунизма, немцы не смогли бы долго продержаться в России.
Роман «Кудеяров дуб» (1957–1958), в котором эта тема разбирается, представляет собой произведение, существенным образом отличающееся, например, от романа А. Фадеева «Молодая Гвардия», где рассказывается о событиях, очевидцем которых этот советский писатель не был, но подделывал их, подлаживаясь к партийной линии. Действие повести «Овечья лужа» (1952) происходит примерно в том же отрезке времени. Там описана, в частности, судьба одного преследуемого русского священника. Для Л. Ржевского это произведение является «по своим литературным достоинствам, равно как и по остроте и непререкаемой важности взятой темы, несомненной вершиной творчества этого автора… „Овечья лужа“, конечно, заслуживает отдельного издания и перевода на другие языки».
По словам В. Казака, опубликованное посмертно исследование Ширяева «Религиозные мотивы в русской поэзии» (1960) является ценным дополнением к традиционному литературоведению, в то время как повесть о конокраде «Ванька-Вьюга» (1955), в которой писатель обращается к описанию дореволюционных времен, значительно ниже по уровню, чем его рассказы, повести и романы о советской эпохе.
Благодаря Ширяеву, ставшему одним из первых заключенных и уцелевших на Соловках, в русскую литературу вошло описание жизни тамошних узников 1922–1927 гг. и жизни, которая, несмотря на убийственные условия, определялась религиозным духом, исходящим из монастыря и монашества. В эту свою книгу «Неугасимая лампада» (1954) Ширяев включил уже опубликованные прежде произведения, изменив их названия. Например, «Горка Голгофа» (1953), рассказы о подвиге русских мучеников на Соловках, впоследствии, в 1981 г., канонизированных Русской Зарубежной Церковью, и «Уренский царь» (1950) о маленьком селе-государстве, оказавшем во время Гражданской войны сопротивление красным.
Рецензируя в «Гранях» (№ 24) «Неугасимую лампаду» В. Арсеньев писал: «Язык автора богат, разнообразен и выразителен. Есть в нем что-то от Клюева и Шмелева».
Ширяев пожинал, конечно, не только дифирамбы. В 22-й тетради парижского журнала «Возрождение» (за июль-август 1952 г.) критик Н. Шварц-Омонский корил его за то, что в «Уренском царе» он изобразил «царя» не «героем забавного эпизода, а свято-русским богатырем, страстотерпцем, носителем черноземной народной тайны». И зубоскалил, что не наблюдает бурного роста. Но Ширяев и не ставил себе подобной цели. В письме Дубровскому от 18 мая 1955 г. он указывал:
«Нам лучше ограничиться небольшим кадром настоящих работников для своей мозговой лаборатории, не отягощая себе балластом ненужной по существу массовой работы. Массовая работа предстоит на родине тем из нас, кто ее увидит. Их мы и должны готовить. Будем же до конца солдатами на своих постах. Я считаю себя ортодоксальным последователем Солоневича и готов драться с кем угодно за развитие его идей».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: