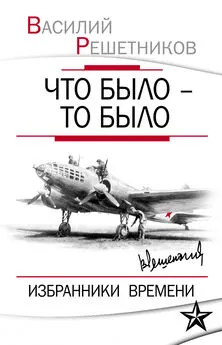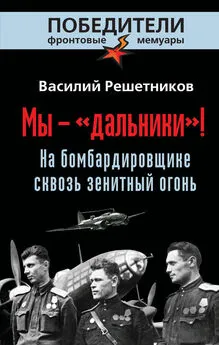Василий Решетников - Что было – то было. На бомбардировщике сквозь зенитный огонь
- Название:Что было – то было. На бомбардировщике сквозь зенитный огонь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Яуза
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9955-0912-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Решетников - Что было – то было. На бомбардировщике сквозь зенитный огонь краткое содержание
Что было – то было. На бомбардировщике сквозь зенитный огонь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но авиация была жива, превозмогала боль и потихоньку залечивала раны. Наделав бед и осознав заблуждение, верховное руководство постепенно возвращало ей подобающее место. Воспряли и недавние вероотступники.
Спасением Дальней авиации явилось, пожалуй, и то обстоятельство, что к тому времени на выходе оказались тяжелые авиационные ракеты для обычных и ядерных зарядов с дальностью пуска по наземным и морским целям в несколько сот километров. Поспели и новые средства навигации, радиопротиводействия и разведки. В таком оснащении Дальняя авиация выглядела уже качественно иной, соответствующей новейшим концепциям ведения войны. Бомбардировщикам, чтобы стать носителями ракет, предстояла крупная и сложная модернизация, осилить которую могли, как это виделось, только заводы авиапромышленности. Но наши гиганты авиастроения, с их непостижимо колоссальной армией рабочего класса и ничтожной, по мировым меркам, производительностью труда, еле справлялись со своим чахлым планом, и наш заказ отвергли начисто. Пришлось эту задачу взваливать на свои плечи, поручив ее корпусным авиаремзаводам, предназначенным, строго говоря, для поддержания боеготовности авиачастей и уж никак не для промышленной переделки самолетов. К счастью, там оказалось немало специалистов высокой квалификации, и они не подвели.
Первый ракетоносец выкатывали из сборочного цеха с таким волнением, как первый путиловский трактор на заре социализма. И хотя завод работал с максимальным напряжением, программа растянулась на годы, в течение которых первые ракеты стали морально устаревать, а на смену им шли уже новые, с более мощными зарядами, повышенной дальностью пуска и хорошей сверхзвуковой скоростью. Еще не закончив одну программу, пришлось затевать новые доработки.
В технику пилотирования подвешенные под крылья ракеты особых неожиданностей не принесли, а вот на пусках фордыбачили, особенно те, из первого пришествия. Иная сойдет с пилона и то теряет цель, уже идя в самостоятельном полете, то движок у нее заглохнет. И начинает шарахаться эта дурочка, потерявшая «голову», из стороны в сторону, а утратив тягу, беспорядочно валится вниз. А там бывают люди, хоть и пустынные места выбираются для трасс. С земли, пока не поздно, идет к заряду ликвидации сигнал. Ракета взрывается и прахом оседает на землю. Туда на вертолетах спешит инженерная комиссия, собирает осколки и по ним пытается понять причину отказа. Начинаются разного рода «мероприятия», мелкие доработки, контрольные проверки боекомплектов. После нескольких удачных пусков всем кажется, что мы «схватили дьявола за бороду», но вдруг – опять срыв. Все начинается сначала. Патологические родовые болезни сопровождали жизнь этих лауреатских ракет до самого их списания.
Боевого заряда в ракете нет, но веса в ней – несколько тонн, да еще с агрессивными, взрывающимися при смешении компонентами топлива. До больших бед мы не дожили, но буровую вышку, поставленную геологоразведчиками вопреки категорическому запрету на небезопасном расстоянии от границ полигона и «светившую» массой своего металла ярче, чем наши рядом стоящие мишени, одна ракетка на исходе полета все-таки схватила и разнесла вдрызг. Геологов в ту минуту там, к счастью, не было, но снялись они с того места мгновенно.
В другое время на Дальнем Востоке, где трасса пусков проходила над территориальными советскими водами, объявленными в этой полосе запретными для судоходства, такая же «блудница» при групповых пусках неожиданно соблазнилась японским рыболовным судном, жульнически вторгшимся куда не следует, и вмазала в надстройку его палубы. Погром учинила страшный, назревал крупный скандал. Но капитан «рыбака», истово извиняясь, чуть ли не на коленях просил наших полномочных представителей простить ему вторжение в чужие пределы и отпустить восвояси, поскольку посудина была еще на плаву. Пришлось «уступить».
На Западе уже применялись ракеты нового класса с иной, более эффективной системой наведения, до которой мы сумели дотянуться нескоро, а наши «шедевры» мало того что были чересчур разборчивы и капризны в выборе цели и не на каждую шли с желанием, особенно наземную, но еще оказались сыроваты и по конструкции, и по технологии исполнения. Слишком безоглядно и торопливо проталкивали их в строй наши заказывающие структуры, смыкавшиеся в своих заботах больше с промышленниками, чем с интересами боеготовности, поскольку за принятием на вооружение новой боевой техники всегда следовали крупные награды и премии. Ни один пуск не гарантировал счастливого исхода и всегда сопровождался переживаниями не только экипажей, но и причастного к нему руководящего командного состава. В самом небольшом комплекте отобранных для тренировки ракет (и это по специализированным мишеням!) две-три непременно подведут. Но поди знай, какая!
И как же было досадно, когда та, порою единственная (пуск – удовольствие не из дешевых), что выделялась полку для применения на очередных учениях, следовавших в те годы, меняясь в масштабах, одно за другим, отказывала в полете или еще до отцепки. На длительный срок, до очередной реабилитации, полк, каким бы сильным он ни был, обрекался на неудовлетворительную оценку. Хорошо, если она исходила от ближайших старших командиров, они чаще других проводили разного рода проверки и учения, а если от министра или его инспекции? Кто посмеет изменить министерское заключение, да еще врубленное в приказ? Критерии тут предельно просты: поразил цель – отлично, не попал – двойка. Все остальное – от лукавого. Иные руководящие, но несведущие технику пуска представляли как пальбу на стрельбище, где результат зависит от умения прицелиться, «поймать на мушку» и сноровки стрелка.
Зато в условиях боевой обстановки нас эти технические погрешности в смущение не ввергли бы: на военных играх по каждому из намеченных для удара объектов мы планировали, компенсируя невысокую надежность, применение нескольких ракет. Даже единственная, достигшая цели, в сочетании с мощным зарядом гарантировала уверенное ее поражение, а что касается остальных, пущенных внакладку, то мы в подробности их разрушительных последствий не вникали, хотя достаточно было самого поверхностного воображения, чтобы представить, как под обоюдными ударами сотен и тысяч термоядерных зарядов будет гореть земля и гаснуть жизнь на ней. Под ними, прицельными ли, случайными, неминуемо окажутся сотни атомных электростанций, химических заводов, десятки плотин и дамб, охраняющих города и целые государства от напора морской стихии. Чернобыль покажется легким насморком рядом со всепожирающим апокалипсисом ядерной войны. Так ли уж далеко стояли мы от нее? Да нет. Бывало совсем рядом. И не раз. У ядерных «кнопок» сидели такие храбрецы, что они в «советах посторонних» не нуждались.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
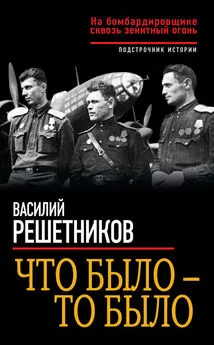

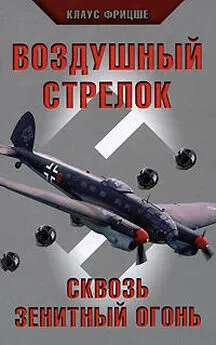
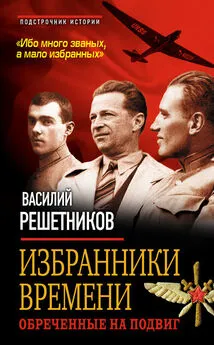
![Василий Грабовецкий - Завтра было вчера [СИ]](/books/1095386/vasilij-graboveckij-zavtra-bylo-vchera-si.webp)