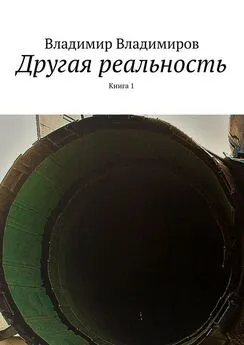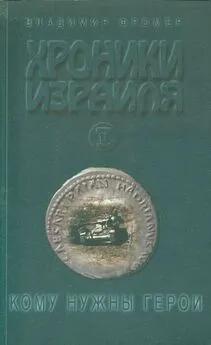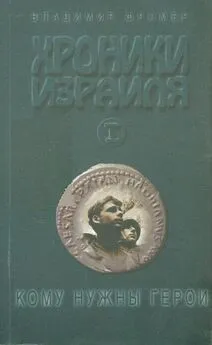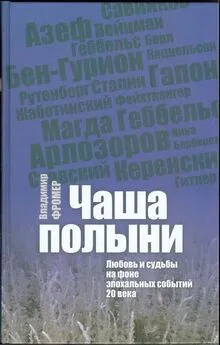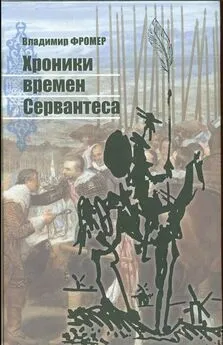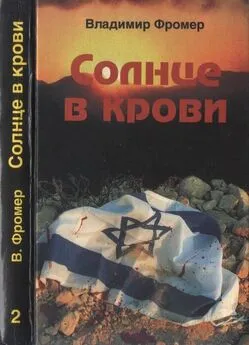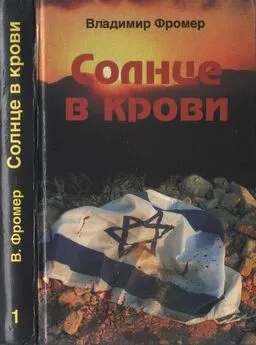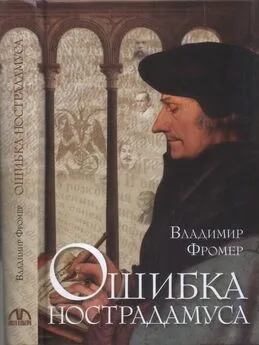Владимир Фромер - Реальность мифов
- Название:Реальность мифов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Гешарим, Мосты культуры
- Год:2003
- Город:Иерусалим, Москва
- ISBN:5-93273-146-X
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Фромер - Реальность мифов краткое содержание
В «Реальности мифов» объективность исследования сочетается с эмоциональным восприятием героев повествования: автор не только рассказывает об исторических событиях, но и показывает человеческое измерение истории, позволяя читателю проникнуть во внутренний мир исторических личностей.
Владимир Фромер — журналист, писатель, историк. Родился в Самаре, в 1965 году репатриировался в Израиль, участвовал в войне Судного дня, был ранен. Закончил исторический факультет Иерусалимского университета, свыше тридцати лет проработал редактором и политическим обозревателем радиостанций Коль Исраэль и радио Рэка. Публиковался в журналах «Континент», «22», «Иерусалимский журнал», «Алеф», «Взгляд на Израиль» и др. Автор ставшего бестселлером двухтомника «Хроники Израиля».
Живет и работает в Иерусалиме.
Реальность мифов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В той же дневниковой записи 15.8.1974: Мария Петровых не оценила Мандельштама как поэта только потому, что он за ней так энергично ухаживал, а она его — как мужчину — не воспринимала. Был у нее роман с Пастернаком в Чистополе. А потом насмерть полюбила Фадеева.
Марию Сергеевну Петровых Якобсон высоко ценил и как человека, и как поэта. От него я узнал, что стихотворение Мандельштама «Мастерица виноватых взоров» — шедевр русской лирики всех времен — посвящено ей. На мой недоуменный вопрос, как же она могла не воздать должного такому поэту, Толя, усмехнувшись, ответил именно так, как записано в его дневнике:
— Могла, потому что не воспринимала его как мужчину. И до лампочки ей была вся его гениальность. Женщины ведь любят не за что-то, а почему-то.
Запись в дневнике 12.8.1974: Эпизод с чемоданом (пусть немец несет) — «А. Солженицын. Архипелаг Гулаг». Нечего валить на офицерскую школу, нечего валить на советскую власть. Вы по природе своей — танк, но очеловечиваетесь постепенно. Желаю дальнейших успехов на этом поприще.
А. А. рассказывала мне. Исаич пришел и прочел свои стихи (она мне: «вирши»). Она: «Не кажется ли вам, что в поэзии должна быть какая-то тайна?». Он: «А не кажется ли вам, что в вашей поэзии чересчур много тайны?»
— Лишь советский жлоб мог сказать А. А. такое, — негодовал Толя, вспоминая этот эпизод. — Солженицын не понимал, что поэзия и проза абсолютно разные вещи. Толстой в юности тоже писал стихи, но ведь Фету их не показывал.
Прозаическая «продукция» Солженицына тоже оставляла Толю равнодушным. Безоговорочно принимал он только «Архипелаг Гулаг».
— Тебе не кажется, — спросил я как-то, — что получи Солженицын Ленинскую премию за «Ивана Денисовича» — и стал бы он преуспевающим, слегка фрондирующим советским писателем? И не было бы ни «Архипелага», ни Нобеля, ни высылки.
— Нет, — с ходу отмел Якобсон. — Солженицын еще с лагерных времен ощущал в себе пророческий зуд. Он все равно попытался бы влиять на режим. А поскольку любая эволюция с этим режимом несовместима, то и конфронтация его с Солженицыным была неизбежной. Он обронил где-то в «Теленке»: «Я — меч в руках божьих».
Кредо — жутковатое, освобождающее человека от нравственного самоконтроля…
С Лидией Корнеевной Толя дружил, переписывался, часто звонил ей в Москву. Иногда из моего дома. На моих глазах пробежала между ними «черная кошка»:
— Прощайте, Лидия Корнеевна, — сказал он сдавленным голосом, бросил трубку и, даже не взглянув на меня, выскочил из дома с такой быстротой, словно за ним гнались фурии.
Толя, как оказалось, пытался убедить Лидию Корнеевну в том, что человек, пользующийся ее безусловным уважением и доверием, этого не стоит. Но разве можно добиться такого на разделяющем расстоянии в тысячи километров?
Из современных поэтов Якобсон выше всех ставил Давида Самойлова, близкого своего друга, и сердился на меня из-за прохладного отношения к его музе. Пытаясь меня переубедить, Толя часами читал вслух его стихи. Слушал я охотно, но оставался при своем.
Как, впрочем, и Якобсон в оценке Бродского. Его стихов после 1968 года не любил. Не принимал. Я спорил до хрипоты, убеждал, доказывал.
— Ну, прочти вслух стихи, которые тебя особенно впечатляют, — предлагал он. Я читал. Он морщился: — Вместо поэтики движения — риторика, ораторство. У него форма управляет воображением, а дело ведь не в технике, пусть даже восхитительной. Нет у него прозрений, без которых не может быть великой поэзии. Ну-ка прочти еще раз это вот, любимое твое, «На смерть друга».
Стихи он всегда слушал внимательно, даже если они ему не нравились. С чуть насмешливой улыбкой сказал:
— Ритмическое облачение великолепно. Стих течет, переливается, искрится, держится на одном дыхании. Но, скажи на милость, как понимать вот эти строчки: «Где на ощупь и слух наколол ты свои полюса / в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок» ? Что такое королек, знаешь? А сиповка? Нет? Я так и думал. Женские гениталии на блатном жаргоне. Так к чему вся эта риторика?
Дневниковая запись 21.12.1977: Пастернак и Мандельштам — вершины метафорического письма и его преодоление. Ахматова — сплошное преодоление. Бродский — его декаданс. Поначалу в ярко талантливом проявлении; чем дальше, тем больше в виде собственного упадка. По слабеющим следам Бродского, зверя сильного, идут шакалы, пожирающие его отбросы, отходы, затем извергающие их в виде собственного творчества (не такова ли вся ленинградская молодая плеяда? И молодая Москва небось не чище. Стервятники.)
Незадолго до смерти он, продолжая наш незавершенный спор, прочитал мне отрывок из последнего письма Лидии Корнеевны. Цитирую по памяти, но за смысл — ручаюсь: «Не понимаю, что сделало Бродского первым поэтом своего поколения. Почему во многих интеллигентных домах Москвы и Ленинграда висят его портреты. Передо мной лежат четыре его сборника. Мне его стихи кажутся на грани гениальности и графомании. Разъясните, пожалуйста, в чем тут дело».
— Ну, — спрашиваю, — и что же ты ей напишешь?
— А то и напишу, что грань перейдена, только не в ту сторону, — сердито ответил Толя.
Поэтом-переводчиком он был превосходным. Стихи Лорки, Эрнандеса, Готье, Верлена в его переводах равнозначны подлиннику. Якобсон изумительно чувствовал взаимосвязи между звуковым обликом и тематикой, между пульсирующим движением стиха и смыслом и воспроизводил их с блистательной виртуозностью. Он находил точные языковые эквиваленты для передачи тончайших особенностей оригинала: тональности, регистра речи, образности, ритма, колорита и т. д.
Как-то рассказал я ему, как искал Апта — великолепного переводчика европейской прозы. Дело в том, что роман Томаса Манна «Иосиф и его братья» поразил меня не только сам по себе, но еще и мастерством перевода.
Апт добился настоящего чуда. Воссоздал до мельчайших деталей величественный собор Манна, используя совсем иной строительный материал. Вот я и решил, что тот, кто так владеет языковыми ресурсами, обязательно должен сам творить. Занялся поисками — и нашел аптовское оригинальное «творение». В библиотеке Иерусалимского университета оказалась его книжка «Жизнь и творчество Томаса Манна». Уже одно название не сулило ничего хорошего. Так и оказалось. Я открыл ее — и похолодел. Мертвые слова не давали ни малейшего понятия об истинных возможностях этого человека.
— Да, — сказал Толя, — есть люди, которые могут творить, лишь когда ими руководит чужая воля, помноженная на талант и воображение. А я в поэзии — чем не Апт? Ты, например, в восторге от моих переводов. И не только ты. А вот собственного поэтического голоса у меня нет. Хорошо хоть, что это не главное занятие в моей жизни…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: