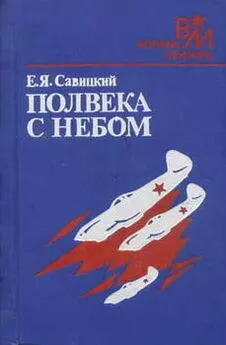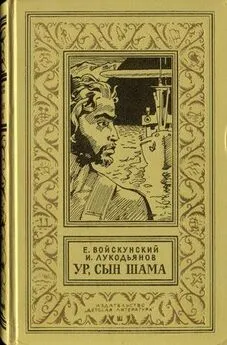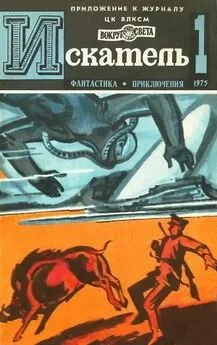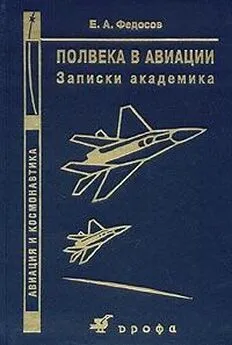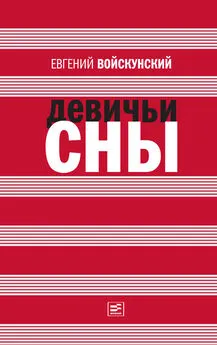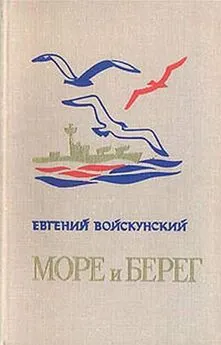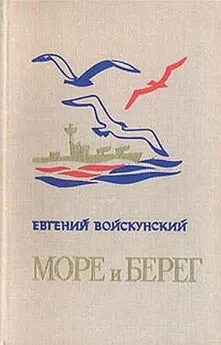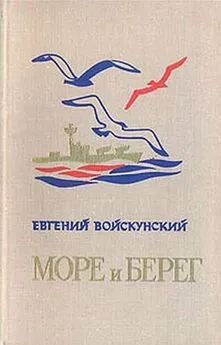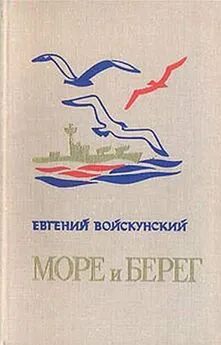Евгений Войскунский - Полвека любви
- Название:Полвека любви
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Текст
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7516-0790-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Войскунский - Полвека любви краткое содержание
Полвека любви - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Александр Леонтьевич, — обратился к нему Завадский. — Это автор пьесы «Бессмертные». Отдаю его в ваши заботливые руки.
Александр Шапс осиял меня улыбкой и увел к себе. Да, он намерен поставить мою пьесу, но его не совсем устраивает финал. Гибель подводной лодки надо как бы уравновесить жизнеутверждающей концовкой — он, Шапс, закажет композитору соответствующую песню, а я должен придумать этот самый финал.
Он хотел поставить спектакль-песню. Очень тянул меня к патетике, я сопротивлялся, но на какие-то уступки пришлось пойти. Я советовался с Леней Зориным — он к тому времени стал видным и успешным драматургом. По его совету я что-то переделал, переименовал пьесу в «Субмарину».
Все шло на удивление хорошо. Поспевал сценический вариант, Шапс одобрительно относился к переделанным кускам пьесы. Вел переговоры с композитором насчет песни. И начинал распределять роли. Помню, что роль штурмана Леонтьева он намеревался дать молодому в ту пору Леониду Маркову.
И вдруг — крутая перемена.
Чтение пьесы на труппе породило разнобой в оценках. Одним актерам пьеса понравилась («жизненная правда захватывает… нет ложного пафоса… происходит такое, такое…»), другим — нет («жизненной правды много, но — слаба драматургия… много разговоров, мало действия…»). Шапс горячо защищал пьесу. Но по-видимому, всё решил Завадский.
Дня два Шапс не отвечал на телефонные звонки, наконец я приехал в театр и нашел моего Александра Леонтьевича мрачным, расстроенным. Он сказал, что возникли сомнения «кассового характера». Ну, понятно… Я знал, что два последних спектакля — «Дали неоглядные» Вирты и какой-то еще — плохо посещаются, театр в трудном финансовом положении. И наверное, руководство обеспокоилось, что на спектакль о войне зритель тоже не побежит.
Шапс посоветовал поговорить с Завадским. Юрий Александрович был, как и в первую нашу встречу, очень любезен.
— Вы не представляете себе, — сказал он доверительно, — с каким трудом формируется репертуар…
Мне как-то не захотелось вникать в ужасные трудности их театральной жизни. Я молча смотрел, как Завадский, продолжая говорить, что-то рисует карандашиком в настольном блокноте.
Он выразил надежду, что я напишу для его театра новую пьесу.
Но с меня было достаточно. С твердым решением пьес больше не писать я надел свое новое ратиновое пальто и укатил из Москвы.
Из Всероссийского театрального общества мне прислали рецензию на пьесу, написанную драматургом Александром Штейном (вскоре эта рецензия, переделанная в статью, появилась в журнале «Театр»).
Вот ее начало.
Из газет я узнал, что пьеса «Бессмертные», присланная на конкурс драматургических произведений под девизом «Перископ» и удостоенная одной из третьих премий конкурса, принадлежит ныне живущему в Баку капитан-лейтенанту в отставке Евгению Войскунскому.
Я не знал автора пьесы раньше, незнаком с ним и ныне. И, однако, не скрою: прочитал я впервые «Бессмертные», когда пьеса еще не была премирована и имя автора хранилось в тайне — и показалось мне, словно бы встречались мы с ним в годы блокады, наверняка встречались, может быть, в Ленинграде, а может быть, в Кронштадте, может быть, на подводной лодке, а может быть, где-то на берегу…
Думаю, у каждого, кто прочтет «Бессмертных» и кто был в годы Великой Отечественной войны на Краснознаменном Балтийском флоте, кто встречался с балтийскими подводниками, сталкивался с их суровым и подчас трагическим военным бытом, неизменно возникнет ощущение, подобное моему, и, вероятно, ощущение это обязано атмосфере достоверности, которой проникнута вся пьеса.
Достоверность! Драгоценное и необходимейшее качество для любого литературного произведения, а тем более для произведения драматического!
Это качество «Бессмертных» заставило меня, с первых же ремарок и реплик, отнестись к чтению пьесы с большим вниманием, а затем и с увлечением…
А вот концовка этой 15-страничной рецензии:
Последняя картина пьесы, после трагической гибели экипажа, полна какой-то светлой печали, веры в будущее, и ее нельзя трактовать в черных, траурных или, тем паче, слезливых тонах. Эта картина написана своеобразно, и должна она звучать поэтично, романтично, как песня об ушедших, как гимн их светлой памяти. В этом, мне кажется, весь смысл картины, очень важной и потому, что она идет непосредственно после картины гибели лодки со всем экипажем, и потому, что она венчает пьесу.
Таковы мои замечания об этой интересной пьесе, являющейся удачным дебютом молодого драматурга. Пожелаем же ему и его произведению попутного ветра и счастливого плаванья.
Спасибо, Александр Петрович, за добрые слова. Пьеса, наверное, и впрямь была неплоха, но ее «счастливое плаванье», увы, не состоялось.
В конце 1961 года пришло письмо с Дальнего Востока — из города Советская Гавань. Режиссер Драматического театра Тихоокеанского флота Виктор Занадворов известил, что приступает к постановке моей пьесы. Письмо было очень обстоятельное. Занадворов верно понял проблематику пьесы — тему доверия к человеку — и делился своими постановочными соображениями.
Спустя полгода в большом письме Занадворов подробно описал премьеры во Владивостоке, Совгавани и на Камчатке. Премьере в главной базе флота — Владивостоке — предшествовала изрядная нервотрепка. Утром пьесу прочитал завотделом пропаганды политуправления флота, ему очень не понравилась сцена с предательством Рожкового («такого не может быть»), и он доложил об этом главному политработнику — члену Военного совета. И тот приостановил премьеру. А билеты уже были проданы. Назревал скандал. «Но к 5 часам вечера, — писал мне Занадворов, — удалось доказать члену Военного совета, что пьеса и спектакль совсем не крамольные, и договориться о том, чтобы премьеру не отменять, а уж дальше решить: стоит ли играть спектакль. Член Военного совета сам был на спектакле, сам его принимал, сам дал „добро“ на дальнейшую эксплуатацию спектакля и велел его всячески популяризировать на флоте».
О других постановках «Бессмертных» («Субмарины») я не знаю. Доходили слухи, что пьеса шла и в Театре Северного флота и где-то еще. А в Театре Балтийского флота поставить ее запретил «родной» Пубалт. Даром что именно на Балтике происходит действие пьесы. Рожковой продолжал отпугивать агитпропщиков…
Не везло мне с пьесами.
Лишь один был прок от «Субмарины» — премия (30 тысяч рублей) и гонорары от двух ее публикаций — в сборнике «Новые пьесы», вышедшем в московском издательстве «Искусство», и в бакинском журнале «Литературный Азербайджан».
И на том спасибо.
Снова я побывал в Либаве: надо было помочь Рашели Соломоновне упаковать и отправить вещи и привезти ее в Баку. Либавская квартира на Узварас осталась за подплавом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: