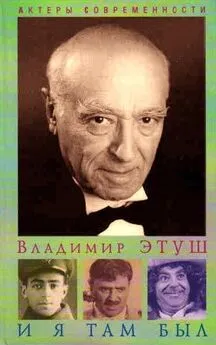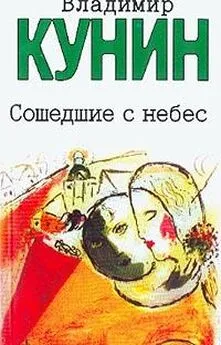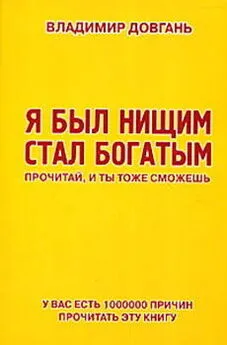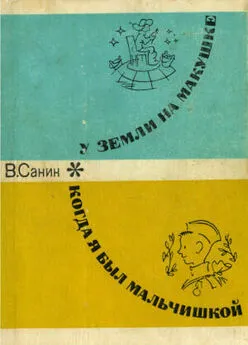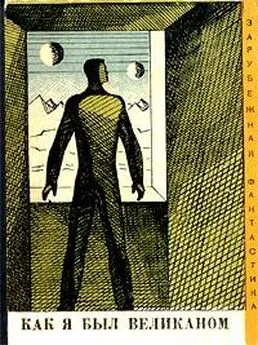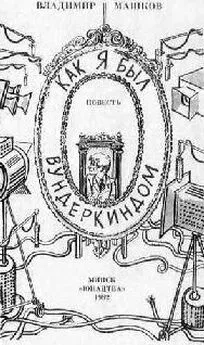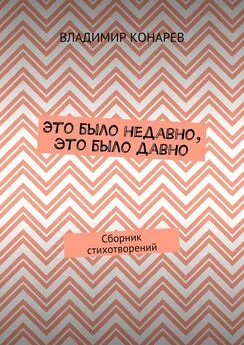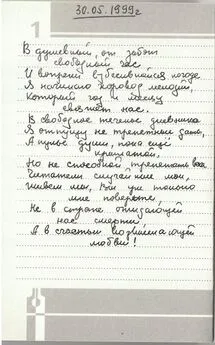Владимир Этуш - И я там был
- Название:И я там был
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Олма-Пресс
- Год:2002
- ISBN:5-224-03874-X
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Этуш - И я там был краткое содержание
И я там был - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В силу своего характера и воспитания я не мог пропустить таких непотребных вещей — делу время, потехе час! — страшно разозлился, выдал все, что я о них думаю, и разогнал с позором. Они страшно испугались. Этот эпизод помнили долго и они, и я.
Педагогическая деятельность, помимо простого общения с молодежью, помимо желания создать сценическое произведение на основе какого-то литературного материала вкупе с обучаемыми будущими актерами, увлекала меня гимнастикой души. Ведь все, что происходит в репетируемом отрывке или пьесе, обычно проигрываешь изнутри, пропускаешь через себя. А это замечательное подспорье для собственной сценической практики.
Работа над сценическим образом дело не простое. Поначалу актеру требуется понять себя, свои возможности, с тем, чтобы потом пользоваться своим психофизическим аппаратом, как инструментом. Поэтому ученику первого курса мы предлагаем действовать во всех упражнениях только от себя («Я в предлагаемых обстоятельствах»). Три семестра идет этюдная работа, когда студент изучает систему, постигая жизнь своего духа и своего тела в разных ипостасях отношений к партнеру, к факту, к месту действия, изучая разное физическое самочувствие. Два семестра студент делает это от себя и только на третьем, на основе верно понятой своей органики, пытается перейти к созданию образа. К. С. Станиславский говорил: «Каждый актер на основе моей системы должен создать свою собственную». Не на первом курсе, конечно!
Эту формулу поведения очень легко сформулировать и очень трудно следовать ей на практике. Я никогда не забуду рассказы Владимира Ивановича Москвина о своем отце, который при всем своем огромном актерском опыте, выйдя на сцену, любил вынуть платок или проделать какое-то простое физическое действие. Это помогало настроиться на чувство правды — «вот я на сцене сейчас буду говорить слова Шекспира или Островского, разыгрывать события от меня далекие или не происходившие вовсе — и в подтверждение тому, что это я, к примеру, сморкаюсь, причесываюсь или начинаю еще с какого-то привычного действия, которое погружает меня в реальность происходящего и помогает действовать от лица образа».
Станиславский говорил, что даже собака, войдя в новое помещение, обязательно ориентируется, и только актер выскакивает на сцену и сразу начинает говорить слова.
В начальный период обучения студенты сдают самостоятельные работы, приносят наблюдения, занимаются профнавыком — изучают специальные разделы программы, которые также подчинены выявлению их индивидуальности. И мы, педагоги, в этот период усиленно изучаем возможности студента, его вкус, культурный уровень, способность работать самостоятельно, его поведение в коллективе.
С четвертого семестра начинается работа над отрывками из пьес, а потом и дипломным спектаклем. Идет совместное изучение произведения, выявляется его трактовка. И здесь педагог, уже понимая студента, активно вторгается в его внутренний мир, при этом пытаясь соблюдать святое правило: «не навреди», ибо «свобода одного кончается там, где начинается свобода другого». В этой формуле должен быть сосредоточен принцип всякой цивилизации. Найти деликатную грань, когда нужно притормозить, остановиться, чтобы не помешать так же свободно выявиться другому, — в этом великое достижение культуры всякого общения.
Работа с учениками над исходной драматургией у меня строилась по-разному. Были моменты, когда привести ученика к желаемому результату можно было ощупью, намеком. И я почти не поднимался из-за режиссерского столика. В некоторых случаях возникала необходимость больше потратить себя, что-то показать ему, сыграть за него, и тогда ученик это понимал и принимал.
На этом поприще приходилось встречаться со всякого рода случаями. Студенты бывают настолько разные, что даже на втором и на третьем курсах обучения порой возникают сомнения, смогут ли некоторые из них заниматься в дальнейшем избранной профессией. По плечу ли она им? Туда ли они попали? Нужны ли они театру? Бывало, ведешь какого-то ученика, ведешь, он растет постепенно, а потом вдруг как упрется — все, достиг потолка! И не знаешь, что с ним делать. Я опять возвращаюсь к своему излюбленному образу той лошади, которая по тем или иным причинам не может свезти свой воз, бьется в оглоблях, рвет постромки, а дело не движется. И студенты такие бывают — достигнут определенного учебного уровня, а дальше ни тпру ни ну. То ли у него отсутствуют природные данные для дальнейшего продвижения в профессии, то ли он еще не созрел для новых свершений, не подключил, что называется, свои потаенные резервы. И педагогу следует это разгадать, выявить причину бездействия, пока не поздно. Бывает, что некоторым студентам, дошедшим до определенного уровня, их ленивая природа не позволяет сделать качественный скачок. Таких надо «взбодрить» доступными педагогическими средствами, «дать пинка», чтобы расшевелился, ожил.
Вообще, как известно, даже талантливого человека ничему научить нельзя, если он сам того не хочет. И задачи педагогики сводятся к тому, чтобы направить ученика, дать ему толчок, разбудить его творческий потенциал, привести к тому, чтобы он осознал степень своей тяги к искусству. Часто человек, поступивший в училище, в начале учебного периода даже не предполагает, сколько ему нужно будет приложить усилий, сколько потребуется от него энергетических затрат, чтобы стать нечто из себя представляющим актером. Ленивых и бездарных искусство не любит.
Наше дело чрезвычайно тонкое, очень часто многое зависит от верного взаимодействия индивидуальностей педагога и ученика. И отсутствие контакта не всегда определяется человеческим качеством того или другого. Бывает, что нужно найти то самое «петушиное слово», которое поможет ученику раскрыться.
Был у меня такой курьезный случай. Поступила к нам в училище девушка с превосходными внешними данными, да что говорить, просто красивая! Но обучение у нее никак не шло. И перед тем как ее отчислить, Захава предложил мне сделать с ней отрывок из «Шторма» Биль-Белоцерковского.
Взяли мы сцену следователя и спекулянтки, которую давно и непередаваемо хорошо играла в концертах Фаина Георгиевна Раневская. Следователя репетировал Александр Левит, работающий ныне в Санкт-Петербурге, народный артист, а спекулянтку — Элла Нечаева. И эта Нечаева прекрасно взяла украинский акцент, замечательно репетировала, но… до определенного момента. По сюжету следователь сначала делает вид, что он всему верит, что плетет ему спекулянтка, а потом вдруг «раскалывает» ее, показывая, что знает ее подлинное лицо. И вот когда они доходили до этого момента, с Нечаевой абсолютно ничего не происходило. А ведь все дело в драматическом переломе, она должна как-то на это отреагировать, растеряться — поначалу в ней жила уверенность, что она водит следователя за нос, и вдруг она понимает — все ее усилия коту под хвост!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: