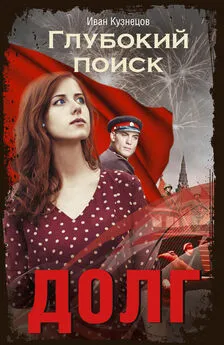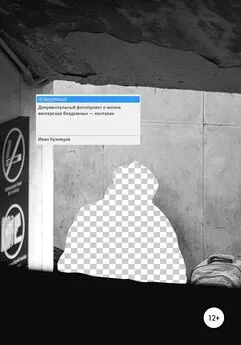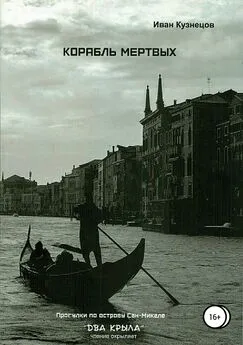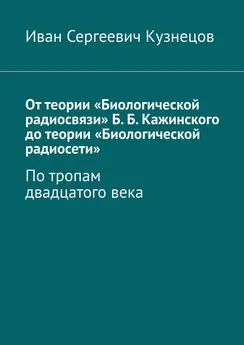Иван Кузнецов - На судьбу я не в обиде...
- Название:На судьбу я не в обиде...
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Флинта»
- Год:2010
- Город:М.
- ISBN:978-5-9765-0875-0, 978-5-02-037206-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Кузнецов - На судьбу я не в обиде... краткое содержание
Для широкого круга читателей.
На судьбу я не в обиде... - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Выдвинув столь благородную задачу, во имя новой России, в которой не должно быть места «ни угнетению, ни насилию», призывая делать журналистику «чистыми руками», редакция на первых порах всячески стремилась к тому, чтобы газета выглядела сугубо информационным органом. Об этом свидетельствуют даже рубрики первых номеров: «Телеграммы», «По Советской России», «В Париже», «На Западе», «Среди эмигрантов» и т. д. Стремясь показаться объективной в оценке событий, газета прибегала даже к осмеянию всевозможных небылиц, распространявшихся в европейской, в том числе русской эмигрантской печати, о событиях в Советской России. 10 июля 1920 г. в «Последних новостях» за подписью Лоло [52]появилось стихотворение «Вранье», гласившее:
Боже мой, как люди врут —
Врут и здесь, и там, и тут,
Врут повсюду, в целом свете,
Врут в парламенте, в газете,
В министерском кабинете…
Врут изящно и вульгарно,
Вдохновенно и бездарно
Для других и для себя,
Ненавидя и любя.
Однако, как и следовало ожидать, все стремления редакции не вникать в политику, успехом не увенчались. 27 апреля 1923 г. в статье «Трехлетие “Последних новостей” было сказано: «Само название нашей газеты показывает, что, когда три года назад она была основана, ее цель была по преимуществу информационная. Однако, политическое значение переживаемого нами времени так велико, что газета… не могла остаться в стороне от борьбы направлений, и вынуждена была неизменно следовать курсу верному своему компасу – “борьбы против насильников, овладевших Россией”.
Страницы газеты украшали рассказы и очерки И.А. Бунина, отдельные главы из трилогии А.Н. Толстого «Хождение по мукам». Регулярно публиковались фельетоны Н. Тэффи. «Ностальгия» – так назывался один из них, правдиво передававший настроение всех находившихся в вынужденной эмиграции, в разлуке с родной страной. «Пыль Москвы на ленте смятой шляпы, я как символ свято берегу» – эти строки, взятые в качестве эпиграфа к фельетону из стихотворения Лоло, как нельзя лучше отражали его содержание. «Я видела признаки этой болезни и вижу их все чаще и чаще, – с грустью пишет Η. Тэффи. – Приезжают наши беженцы изможденные, почерневшие от голода и страха, отъедаются, успокаиваются и вдруг гаснут. Тускнеют глаза, опускаются вялые руки и вянет душа, душа, обращенная на восток. Ни во что не верим, ничего не ждем, ничего не хотим. Умерли… Думаем только о том, что теперь там, интересуемся только тем, что приходит оттуда» [53].

Надежда Александровна Тэффи
Мыслью о трагической судьбе России проникнуты не только произведения Н. Тэффи, но и многих других писателей и публицистов. Из числа последних следует выделить Е.Д. Кускову, особенно ее «Письма из Берлина». Их публикация предварялась следующим редакционным примечанием: «Приступая к печатанию “Писем из Берлина” Е.Д. Кусковой, редакция оставляет ответственность за содержание этих писем на авторе. Кое в чем, быть может, важном мы можем разойтись. Но яркая личность Е.Д. Кусковой достаточно известна читателям и ее общее настроение в вопросах текущей минуты достаточно близко к нашему, чтобы мы считали себя вправе представить ее мысли читателям в том виде, как того желает сама уважаемая политическая деятельница» [54].
В своих письмах Е.Д. Кускова решительно выступила против вооруженного свержения большевиков. Как бы ни относиться к революции, подчеркивала она, на стороне революции при самодержавии была «большая правда», большая «нравственная сила», и призывающие «топить» всех прикосновенных к большевизму, проявляют тот же «звериный русский большевизм, только наизнанку». «Струве настойчиво твердит, – читаем в “Письмах”, – мне все равно кто их свергнет Марков II или Керенский». Ну, а мне не все равно, заявляет Кускова, так как такое свержение приведет к еще более страшной гражданской войне [55].
Оперативно откликнулись «Последние новости» на смерть Ю.О. Мартова-Цедербаума. Его роль в истории российской социал-демократии была отмечена «как выдающаяся и количественно и качественно». На заре марксизма в России, писала газета, когда социал-демократическое движение было представлено в России только молодежью, четверо юношей были выдвинуты событиями: Ленин, Потресов, Струве и Мартов. Ленин – «ушел в сторону примитивного коммунизма», А.Н. Потресов стал «проповедником легального парламентского социализма», Струве «ушел далеко вправо». «Один лишь Мартов остался тем, чем был в ранней юности: ортодоксальным марксистом героического периода социал-демократии» [56].
С обстоятельною статьей выступила в газете Е. Кускова. «В Берлине умер Мартов, глава меньшевизма, в Москве умирает Ленин, глава большевизма, – так начинает она свою статью. – Двуглавая большевистская социал-демократия, победившая двуглавого орла самодержавия, теряет обе головы… На поверхности нет никого, кто мог бы их заменить…» [57]
Столь же оперативно откликнулась газета на смерть Ленина. «Партия, как целое, – отмечалось в передовой «После Ленина» (1924, 23 января) ослепла, потеряв свой перископ в Ленине». С 23 по 30 января в каждом номере под рубрикой «После смерти Ленина» печатались отклики на его кончину, сообщения о траурной процессии в дни похорон, о переименовании Петербурга в Ленинград, о траурных выпусках газет. Главная мысль всех публикаций в траурные дни сводилась к тому, что после смерти Ленина «быть может, недалек день перерождения всей русской жизни».
Перерождения русской жизни ждали не только кадеты, а, можно сказать, вся русская эмиграция, в том числе эсеры, неизменно занимавшие в своем центральном органе – журнале «Революционная Россия» позицию «изживания коммунизма» большевиков. Основанная в 1900 г. и выходившая до 1905 г. «Революционная Россия» в 1920 г. была возобновлена в Праге и издавалась до 1931 г. И до Октябрьской революции, и в годы эмиграции ее редактором являлся В.М. Чернов. Активными сотрудниками были А.Ф. Керенский, В.М. Зензинов, И.А. Рубанович, Н.С. Русанов, В.В. Сухомлин, Марк Слоним, печатался поэт Константин Бальмонт, который откровенно заявлял: «Коммунизм я ненавижу. С кем бы то ни было из коммунистов у меня нет ничего общего» [58].
В апреле 1921 г. в журнале появилась программная статья В. Чернова «Основные мотивы гильдейского социализма». Максим Горький, говорится в ней, недавно сравнил Ленина с Петром Великим. Тут есть некоторая доля правды, если судить не столько о калибре человеческой личности, сколько о социально-экономической стороне дела, о методах государственной работы. Действительно, суть большевизма заключается в том, что Ленин и его товарищи пробуют загнать Россию в коммунистический рай «дубинкой Петра Великого». Если однажды она вколотила в Россию западную цивилизацию, то почему бы ей не вколотить в Россию и коммунистический строй. Только в стране векового абсолютизма и «его самодурного экспериментирования» над подавленными массами социальные революционеры могли впитать в себя бессознательно столько веры в мощь исходящего сверху приказа, декрета. «Недаром, – пишет В. Чернов, – иронизировали над Лениным, называя его социализм декретным социализмом и “социалистическим декретинизмом”, только в стране векового абсолютизма идея “диктатуры пролетариата” могла выродиться в абстрактно-аракчеевскую схему диктатуры над пролетариатом и от его имени над всей страной» [59].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
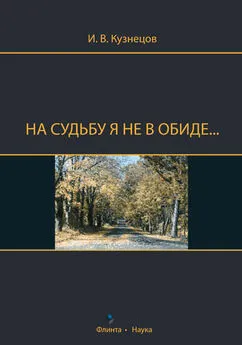
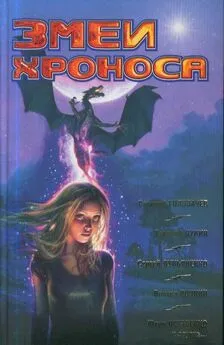
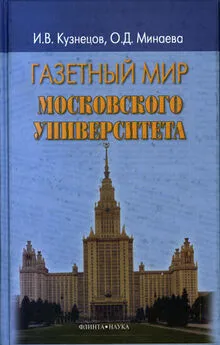
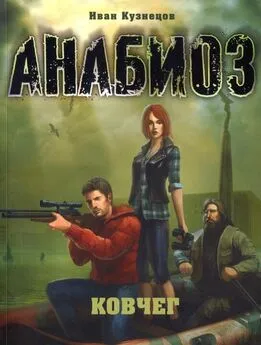
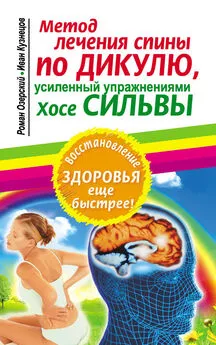

![Иван Кузнецов - Долг [litres]](/books/1062432/ivan-kuznecov-dolg-litres.webp)