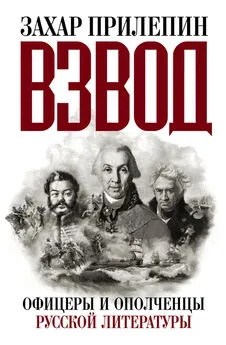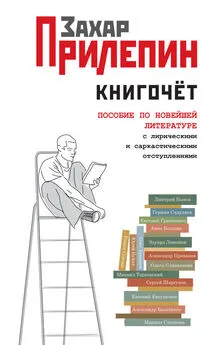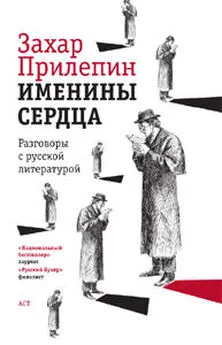Захар Прилепин - Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы
- Название:Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ACT: Редакция Елены Шубиной
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-100820-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Захар Прилепин - Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы краткое содержание
Они сражались на Бородинском поле в 1812-м и вступали победителями в Париж, подавляли пугачёвский бунт и восстание в Польше, аннексировали Финляндию, воевали со Швецией, ехали служить на Кавказ…
Корнет, поручик, штабс-капитан, майор, полковник, генерал-лейтенант, адмирал: классики русской литературы.
Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
О ситуативном и в самом широком смысле внешнем сходстве Александра Семёновича Шишкова и Александра Андреевича Проханова – писателя и автора воззваний к народу, целую жизнь кочевавшего с войны на войну, – мы уже упоминали.
Что бы сам Эдуард Лимонов ни говорил по поводу Золотого века, в его судьбе – и военной, и поэтической, и политической – странным образом с каждым годом куда больше, чем
Че Гевара или Чарльз Буковски, отражаются то Пётр Чаадаев (с его «русским психо»), то Павел Катенин (с его русофильством, замешанным на европейской культурной подкладке, с его злобным критицизмом и чудачествами), то Бестужев-Марлинский (один из первых русских литераторов, осмысленно занимавшийся «героическим жизнестроительством»).
Толстовской традиции наследует прекрасный писатель и «афганец» Олег Ермаков.
«Модернизированные» гусарские традиции на очередном витке явлены сегодня в поэзии и поведенческой модели бесстрашного военкора донбасской и сирийской войн, товарища и собутыльника всех легендарных полевых командиров Семёна Пегова.
…Но об этих примерах мы поговорим в следующий раз.
То, что список невелик, пугать нас не должно: «Взвод» часто бывает в меньшинстве.
Мал он ещё и по той, главной на сегодняшний момент причине, что новоявленная аристократия больше не воюет и о войне не пишет – ведь она выше этого.
Народ, вместо аристократии, сам сочиняет себе военные песни; и получается у него хуже – его никто этому, увы, не учил.
Новую аристократию придётся создавать по другим принципам: мы в плену у самозванцев.
Высокое воинственное и вместе с тем религиозное чувство явлено русским словом.
Это чувство не столько атакующее, сколько жертвенное.
Но чтоб нас заполучить в качестве жертвы, вам придётся обломать все когти.
Здесь была когда-то выращена порода поэтов, которая умела пользоваться порохом; и забыть их уроки нам не удастся.
Они были не просто великими литераторами и воинами.
Именно эти поэты стояли защитой всех униженных, малых, слабых.
Когда победительно и неумолимо пришли этой породе на смену лукавцы, презирающие всякую военную брань и самый вид оружия, одновременно – вот парадокс! – литература наша стала характеризоваться презрением к маленькому человеку, особенно, конечно, к маленькому русскому человеку, как к наиболее маленькому и неказистому человеку в мире, к его «рабскому сознанию», или даже бессознанию, но тоже рабскому.
Непрестанное стремление развенчать русскую историю как таковую, выставив её каруселью варварства и воровства, – вот что стало одной из основных задач литературы; и делалось это как бы ради блага маленького человека, хотя он об этом никого не просил.
Само слово «Отечество» выпало из литературного обихода; ирония и сарказм подменили элементарные человеческие понятия: долга, чести, почитания отеческих гробов. Патернализм стал синонимом конформизма и душевной низости.
Как быть, что с этим делать нам, когда, казалось бы, спасенья нет?
Есть: за нами стоит спецназ русской литературы.
И, наконец, мы имеем оберег на все времена – имя Пушкина.
Он – тот самый русский человек в идеальном виде, который, как предсказывал другой гений, должен однажды явиться. Вроде бы уже пора.
В нашей же истории Пушкин не просто идеальный символ Золотого века, но и фигура, удивительным образом объединяющая всех, собранных в этой книге.
Державина Пушкин почитал за гения.
Нежнейшая дружба связывала Пушкина с Чаадаевым, и сложная дружба – с Владимиром Раевским.
Замечательное приятельство Пушкин водил с Батюшковым и с Денисом Васильевичем Давыдовым, поэзией которых был восхищён.
Катенина Пушкин принимал как первого критика в России и великолепного драматурга.
В Бестужеве-Марлинском видел литератора, обучавшегося в России литературному ремеслу быстрее всех прочих.
Про его отношение к Вяземскому и говорить нечего: то была любовь; хоть и, как всякая любовь, непростая.
Знаем мы и то, как изменилось отношение Пушкина к Александру Семёновичу Шишкову.
Помним, как Пушкин и Вяземский ездили в Тверь навестить опального Фёдора Глинку, которого Александр Сергеевич очень ценил.
Все описанные в этой книге персонажи соединены и сведены воедино жизнью и душой Пушкина. Все, кроме Державина (он искал Пушкина на том самом лицейском слушании, и не нашёл), жали Пушкину руку, и несли её тепло.
Мы не вправе были вносить Пушкина в наш «Взвод»: он не стал военным, не имел воинских званий; хотя просился в гусары (и советовался об этом с Чаадаевым), дважды собирался на войну (первый раз – в компании Владимира Раевского, второй раз – с Петром Вяземским) – и его не допускали.
В полной мере не сложившаяся личная воинская история – одна из постоянных пушкинских рефлексий, пронесённых через всю жизнь: первое из цитируемых ниже стихотворений написано в 1815 году, последнее – в 1836; между ними – без малого двадцать лет, весь пушкинский поэтический путь; и какие неизбывные эмоции! Более того, «Была пора…» – последнее из существующих серьёзных стихотворений Пушкина, то есть, в некотором смысле, его завещание: о так и не прошедшей зависти к тем, кто положил голову за Отечество.
Увы! Мне не судил таинственный предел
Сражаться за тебя под градом вражьих стрел!
Сыны Бородина, о кульмские герои!
Я видел, как на брань летели ваши строи;
Душой восторженной за братьями спешил.
Почто ж на бранный дол я крови не пролил?
Но, лаврами побед увиты,
Бойцы из чаши мира пьют.
Военной славою забытый,
Спешу в смиренный свой приют.
На юных ратников завистливо взирали,
Ловили с жадностью [мы] брани [дальний] звук,
И детство негодуя проклинали,
И узы строгие наук.
Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шёл мимо нас…
Тем не менее, при первой же возможности Пушкин, хоть и оставаясь гражданским человеком, переоделся в военную форму и с настоящим упоением поучаствовал в нескольких делах летом 1829-го на одном из фронтов русско-турецкой. О чём с гордостью, на всех основаниях, написал:
Был и я среди донцов,
Гнал и я османов шайку;
В память битвы и шатров
Я домой привёз нагайку.
[На походе, на войне]
Сохранил я балалайку,
С нею рядом, на стене,
Я повешу и нагайку.
О том же самом – в другом его стихотворении:
Зорю бьют… из рук моих
Ветхий Данте выпадает,
На устах начатый стих
Недочитанный затих —
Дух далече улетает.
Интервал:
Закладка: